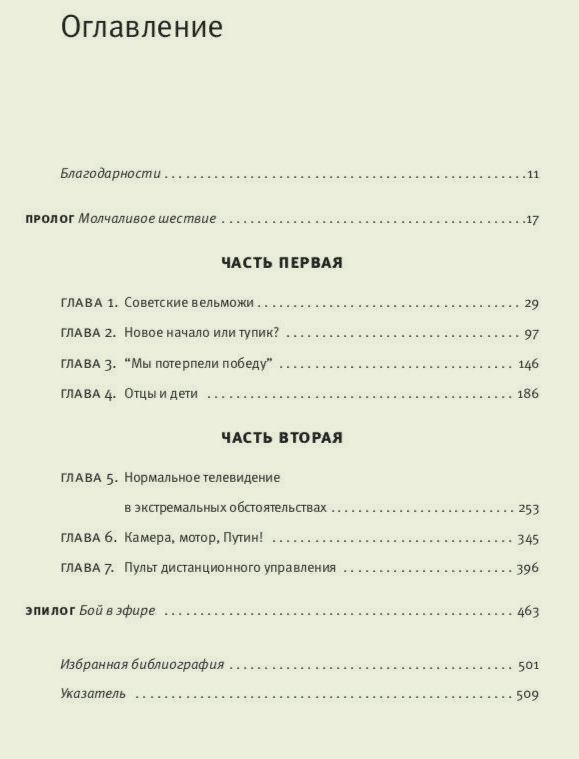Очевидное и более чем вероятное
1 июня 2019 ● "Горький"
Рецензия на книгу Аркадия Островского «Говорит и показывает Россия».
29 мая в Москве была вручена премия «Либмиссия». Одна из наград досталась книге Аркадия Островского «Говорит и показывает Россия». «Горький» рассказывает о достоинствах и недостатках книги.
Аркадий Островский. Говорит и показывает Россия. Путешествие из будущего в прошлое средствами массовой информации М.: Corpus, 2019. Перевод с английского Татьяны Азаркович
Отсутствие внятной книги, в подробностях описывающей всю историю идеологических шатаний России за последние 30–40 лет, и вправду досадно. Аннотации и предисловие к «Говорит и показывает Россия» дают надежду, что нас ждет нечто подобное — история идей, которые двигали нашу страну то влево, то вправо, то еще куда-нибудь. Тем более что автор — известный журналист, сотрудничающий с ведущими иностранными СМИ (The Economist и Financial Times), — сам пишет, что «Россия — страна идеоцентричная. Слова здесь не столько описывают реальность, сколько создают ее, и недаром в мире Россию воспринимали как страну Толстого, Достоевского, Чехова». Кажется, что нас ждет сложный и интересный анализ идей.
Но это не совсем так. История идей оказывается лишь одной из задач автора; а другой же — попытка написать политическую историю России за последний век. Точнее, ту, в которой будут лишь те факты, что вписываются в историческую концепцию автора. Если упрощать, то Островского интересует борьба свободы и несвободы. Все остальное — например, экономика — его интересует постольку поскольку. Как это выглядит технически? Вот так: «Советская система держалась на двух столпах — лжи и репрессиях. Лживые слова оправдывали репрессии. Репрессии подкрепляли и насаждали ложь. <…> Советский Союз развалился не потому, что у него закончились деньги, а потому, что у него закончились слова».
Эта мысль автору кажется столь важной, что он повторяет ее в развернутом виде несколько десятков страниц спустя:
«Советская система держалась на двух опорах — идеологии (пропаганде) и насилии, которые создавали напряжение и усиливали друг друга по принципу арочной конструкции: пропаганда оправдывала насилие, насилие поддерживало ложь и пропаганду. <…> Обвал СССР определялся не столько экономическим упадком, революционными настроениями в центре (они проявлялись слабо) или борьбой за независимость на периферии империи, сколько крушением идей. Без лжи Советский Союз не мог сохранить легитимность».
Предоставим профессиональным историкам оспаривать или подтверждать данные тезисы, однако осторожно предположим, что экономика и экономические провалы и достижения чрезвычайно важны для анализа советской истории. В том числе для того, чтобы понять, как именно воспринимались те или иные идеи в тот или иной период. Но вернемся к книге.
Коротко упомянув об идеях русской дореволюционной интеллигенции, Островский бегло касается Революции (вслед за Слезкиным он считает, что большевики действовали во имя «утопической, милленаристской идеи»), переходит к сталинским репрессиям — наконец, к хрущевской оттепели. Один из главных героев этой части книги — Егор Яковлев, сын чекиста, ставший известным советским журналистом. Тут, наверное, начинается самое интересное в книге — Островского в меньшей степени интересуют идеи и идеология как власти, так и диссидентского движения. Его интересует то, о чем думали «системные либералы» советского времени, относительно свободно мыслившие журналисты и идеологи, которые оставались внутри системы, даже пользовались многими ее благами, но при этом меняли страну. Такие герои — это Егор Яковлев, Александр Яковлев, Александр Бовин.
Их деятельность не вписана ни в официальный миф, ни в диссидентский. А именно в их журналах происходило все самое интересное. Островский прямо указывает, что решающий удар по советской власти нанесли не диссиденты, а люди, контролировавшие СМИ. Например, Егор Яковлев возглавлял журнал «Журналист». «Современное оформление, иллюстрации и фотографии Анри Картье-Брессона и Денниса Стока из знаменитого агентства Magnum сразу привлекли внимание молодого городского класса. „Журналист” во многом был ответвлением „Нового мира”, имел ту же корневую систему; круг его авторов и тем пересекался с журналом Твардовского. Но „Журналист” был изданием бойким и обращался к аудитории 30–40-летних специалистов: к инженерам, сотрудникам НИИ, аспирантам — к тем, кого вскоре назовут „технической интеллигенцией” и советским средним классом, на который будет опираться Горбачев спустя 20 лет. „Журналист” принес мысли и темы „Нового мира” в среду массовой культуры». Так и ждешь, что автор назовет аудиторию журнала хипстерами и сравнит его с «Афишей», но нет, Островскому такая игра в параллели чужда. Да и писалась книга изначально для иностранных читателей, которые не в курсе наших раскладов. К той же середине 1960-х Островский (и это опять-таки очень любопытно) относит осознание журналистами себя как сословия — „Егор Яковлев возвращал себе сословный титул и право на формирование повестки и на самостоятельное мышление”».
Дальше были Прага и очередной период реакции. Но жизнь идей продолжалась: «В 1970-е трудами Ленина вооружились либералы, чтобы показать несостоятельность советской экономической и политической системы. Для того чтобы такой политический маневр сработал, новый Ленин должен был разительно отличаться от своего мумифицированного подобия. Егор [Яковлев] был одним из тех, кто направил собственную энергию и способности на „оживление” образа Ленина, или, как более грубо выразился Солженицын, на создание той „утешки”, которую интеллигенция посасывала втихомолку: что „идеи революции были хороши, да извращены”».
Ленин пригодится и потом, уже в Перестройку. Островский цитирует Александра Яковлева: «Мы, реформаторы 1985 года, пытались разрушить большевистскую церковь во имя истинной религии и истинного Иисуса, еще не осознавая, что и религия обновления была ложной, а наш Иисус — фальшивым». Перестройку и 1990-е Островский предсказуемо описывает как эпоху расцвета свободы и подъема культуры.
«В Москву приезжали лучшие мировые режиссеры — Ингмар Бергман, Питер Брук и другие. Радость от их спектаклей дополнялась закулисными встречами с актерами. Я тогда еще очень плохо знал английский, но сама возможность говорить с ними на одном языке о театре и стране была важнее того, о чем мы говорили. Жизнь представлялась пестрой и очень занятной. <...> Юношеский максимализм уверял, что подобные чувства испытывают вокруг практически все. Но, оглядываясь теперь назад, я понимаю, что тогдашнее ощущение подъема, оптимизма и открывающихся возможностей было типично лишь для относительно небольшой группы, принадлежность к которой определяли уровень образования, возраст (отчасти), социальный статус и прописка. Для большинства же населения России развал Советского Союза означал резкое падение уровня жизни и социального статуса и был неразрывно связан с растерянностью и неопределенностью. Однако в тот момент людям моего круга и поколения казалось, что история на нашей стороне и что будущее принадлежит нам».
Что же случилось? Почему же за этой свободой последовала реакция? Почему, как пишет сам Островский, «и Трамп, и Путин (образца 2010-х годов) стали реакцией на либеральную эпоху 1990-х и оба они выдвинули повестку реставрации былого величия и восстановления статуса „сверхдержав”»? Ответу на него посвящена примерно половина книги, в которой Островский описывает все достоинства и недостатки ельцинской России 1990-х, в том числе и упоминая, как СМИ пользовались свободой слова, чтобы помогать олигархам в их междоусобных войнах, как потом СМИ переключились на поддержку власти, пропаганду патриотизма и антиамериканизма, как сменились поколения: если для старших была важна свобода, то для младших стала важнее сытая жизнь. Сейчас же приходит новое поколение, которому опять-таки снова будет важна свобода. Впрочем, детали тут гораздо интереснее, чем общая концепция. И рассказ о том, как генеральный директор НТВ Игорь Малашенко (книга посвящена его памяти) выговаривал Ельцину за то, что российская власть не может освободить журналистов его канала из плена боевиков, колоритнее любой, даже самой смелой теории.
Как книга написана? Ну, во-первых, как я уже говорил, она — для западного читателя. Поэтому там появляются подобные пассажи: «Март в Москве — тяжелый месяц. Снег, выпавший еще в ноябре, превращается в серую кашу. На улицах по-зимнему зябко, ветер усиливается, и все вокруг выглядит как-то особенно безжизненно и враждебно. Холод, нехватка солнечного света и вечный снегопад изматывают и физически, и душевно. Осознание того, что где-то поют птицы и распускаются нарциссы, делает раннюю московскую весну особенно тоскливой». Во-вторых, безапелляционно: Островский относится к числу тех публицистов, которые не сомневаются, а утверждают. Истории идей у нас по-прежнему нет. Что же у нас появилось? Подробная история страны, написанная в рамках определенной — в данном случае, либеральной — концепции.