«Главное — правильный вопрос и таинственный ответ»
11 марта 2020 ● "Новая газета"
Интервью писателя и любителя рискованных литературных игр Марка Z Данилевского — Дмитрию Быкову: о безумии, о триллере и хорроре, о книге-доме и Трампе.
Марк Z Данилевский (1966) — вероятно, самый известный, загадочный и непредсказуемый писатель своего поколения. Он дебютировал в 2000 году романом «Дом листьев» — удивительной историей о том, как лос-анджелесский диджей нашел в квартире слепого старика, умершего в совершенном одиночестве, рукопись романа о документальном фильме документалиста и фотографа Нэвидсона.

Писатель Марк Z Данилевский
Нэвидсон снял картину о собственном доме, который начал неожиданно расширяться (в нем обнаруживались новые и новые помещения — то кладовки, то подвалы), и, наконец, экспедиция в составе самого Нэвидсона, его брата и приятеля окончательно заблудилась в темных лабиринтах одичавшего здания. Чувство иррационального ужаса охватывало по очереди всех героев и добиралось до читателя. Мне эта книга стоила недельной бессонницы, и я неустанно рекламировал ее в России, пока отважное екатеринбургское издательство «Гонзо» ее не опубликовало по-русски.
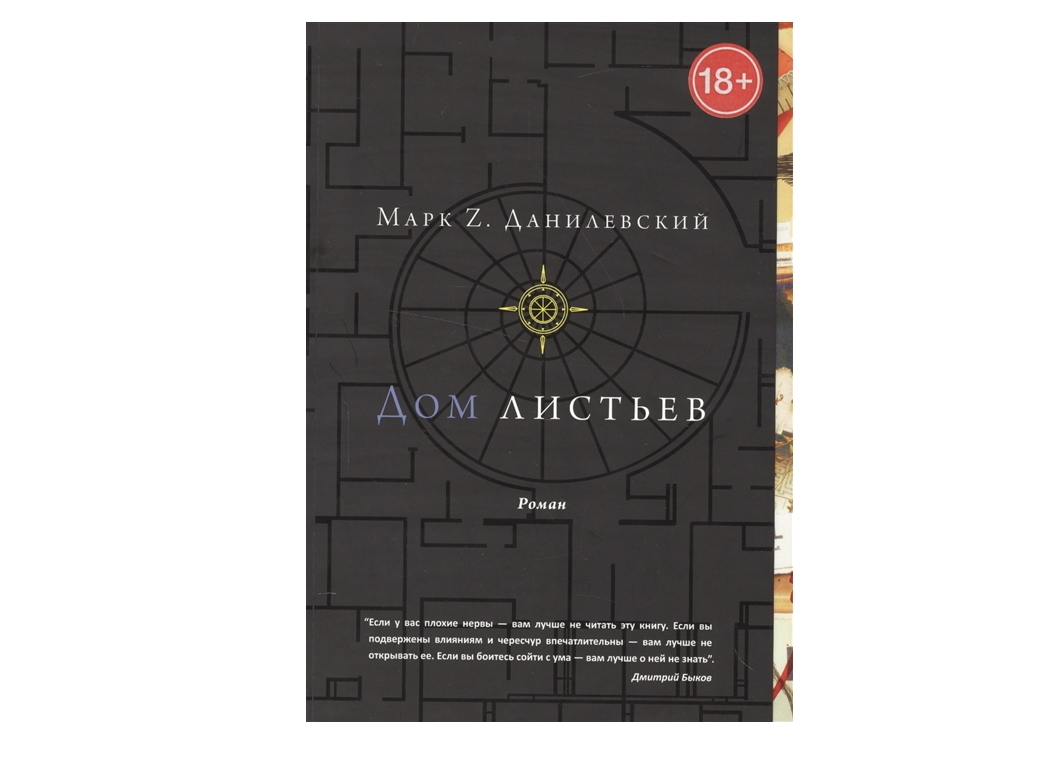
Как и в Штатах, «Дом листьев» привлек и объединил специфических читателей реальными и вымышленными сносками, версткой и шрифтами. «Дом листьев» оставляет стойкое впечатление безумия — но безумия необычайно интересного, изобретательного. Немудрено, что все следующие проекты Данилевского — в том числе совершенно уже экстравагантные — привлекали общее внимание. Его второй роман — Only Revolutions — можно читать с двух сторон: каждая страница — как игральная карта, на одной половине — женская версия сюжета, на другой — мужская, герои — двое 16-летних подростков, странствующих по Америке, по ее территории (хотя скорее истории). Дальше он некоторое время молчал, а потом объявил о начале работы над 27-томным романом Familiar, пять томов которого — каждый роскошно издан, полон шрифтовых игр и насчитывает страниц 800 — вышли к 2017 году. После чего издательство «Пантеон» сочло проект нерентабельным и отказалось от него ровно тогда, когда читатели уже подсели на этот небывалый сериал: скептически встреченный, он с каждым новым томом вызывал все больший энтузиазм, но будущее его темно.
Оказавшись в Лос-Анджелесе, я через «Гонзо» связался с Данилевским и поразился, до чего он при всей своей легендарной замкнутости и труднодоступности оказался прост и мил. Поскольку в России у него за последние три года набежало немало фанов, думаю, наш разговор окажется интересен не только нам. А тем, кто ничего из Данилевского не читал, тоже будет приятно — ведь, как известно, вид фриков всегда повышает нашу веру в собственную нормальность.
— После «Дома листьев» вы написали второй роман, который производит примерно такое же впечатление, как «Поминки по Финнегану» после «Улисса»: словно человек создал мир-шедевр и тут же приступил к его разрушению.
— Совершенно точно, но второй роман и должен быть разрушением первого. Иначе зачем писать?
Справедливости ради, Only Revolutions все-таки гораздо проще Джойса, выдуманных слов — не больше четверти. Если «Дом листьев» был тренировкой читательского зрения, воспитывал привычку к литературе, где шрифт и композиция текста на странице играют важную роль в развитии сюжета, в следующей книге я воспитываю читательский слух. Это даже не роман, а песня — вы уловили, что там большая часть написана в рифму? Без дурацкой скромности скажу, что это мой шедевр: не в том смысле, что это совершенство, а вещь, сделанная на пределе моих тогдашних возможностей. Вы можете назвать другую книгу, где на 300 страниц приходилось бы столько разнообразной информации и хитростей при ее преподнесении?
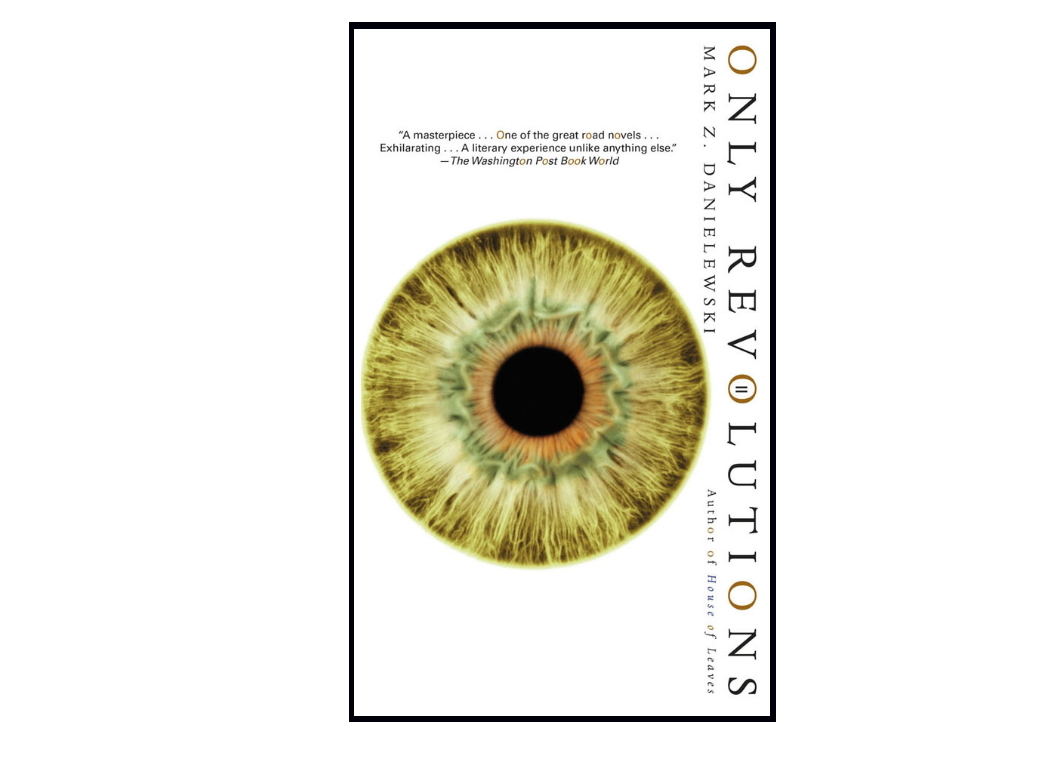
— Лихо написано, но у таких экспериментов всегда два минуса. Первый — что это осилят немногие. Думаю, «Поминки по Финнегану» никто, кроме Беккета, полностью не прочел.
— Я прочел. Ему неважно было, кто прочел. Ему было важно, что он это сделал.
— Хорошо. Вторая претензия — ее и к «Революциям» предъявляли, — что столько средств потрачено на пересказ элементарной, в общем-то, истории, умещающейся в одном предложении.
— Но это можно сказать о любой книге. Фабула «Революций» ничем не отличается от истории в «Прирожденных убийцах», скажем…
— Только ваши не убивают никого.
— Это как сказать. Там непонятно.
— Одного не понимаю: зачем буква О в мужском тексте везде выделена золотым, а в женском — зеленым? Почему вообще именно О? Кислород?
— Нет, потому что это любимая буква, самая распространенная гласная, круг жизни, структура книги. Она вообще закольцована — герои с разных сторон описывают один круг. И «Поминки по Финнегану», если вы помните…
— …образуют уроборос, да. Очень удобный прием — начинаешь с конца.
— А почему зеленый и золотой — понятно же: символ Хэйли — весна, символ Сэма — лето.
— У вас нет ощущения, что традиционное повествование уже невозможно, что книгу теперь можно строить только в вашем духе? Нельзя уже писать, как имярек вышел из дома и поехал на работу.
— Ну и у Толстого было такое чувство, и у Мелвилла. К середине XIX века линейный роман исчерпался. Вообще всякий писатель начинает с того, что предшественники сделали все что можно, теперь пришел он и всем покажет. Дальше либо показывает, либо нет.
— Что будет с циклом Familiar? Кстати, правильно ли все понимают, что это «Фамильяр», то есть животное, прислуживающее ведьме?
— В начале романа девочка находит котенка, от этого закручивается сюжет, вовлекающий в сложную паутину девять главных героев — мексиканцев, китайцев, мафиози, ученых, врачей…
— …которые являют собой групповой портрет человечества.
— Скорее мой групповой автопортрет. Или, может, все они живут в голове этой девочки-аутистки, мы же не знаем…
— Главный вопрос — от чьего лица идет повествование.
— Вы задаете очень хорошие вопросы, но если я вам отвечу, вы поймете про этот роман все, а там еще 22 тома.
— Но это какие-то инопланетяне? Какая-то внешняя сила?
— Это мне пришлось бы углубиться в дихотомию внешнего и внутреннего, и вы бы сразу все поняли. Что есть внешнее по отношению к человеку? То-то и оно. Я верю, что рано или поздно закончу эту книгу, но сейчас она признана нерентабельной. При этом все благополучно расходилось, продажи росли, но я понимаю издателей: это огромная работа, я стоял во главе большого дизайнерского коллектива, платить всем — действительно разорение. Плюс каждая книга должна была выглядеть произведением искусства: глянцевая бумага, сложные шрифтовые игры, цветные буквы, свое оформление у каждой из девяти линий, нормальный такой сериал класса А, но на бумаге.
Бумага — принципиальная моя установка, я получаю много предложений выпускать следующие тома в виде дисков, размещать в Сети, но пока упорствую.
Мне рисуется мегаломанская полка, полностью занятая «Фамильяром». Вероятно, если бы это был роман о Трампе и Путине, а не о коте, его бы не свернули в первой четверти.
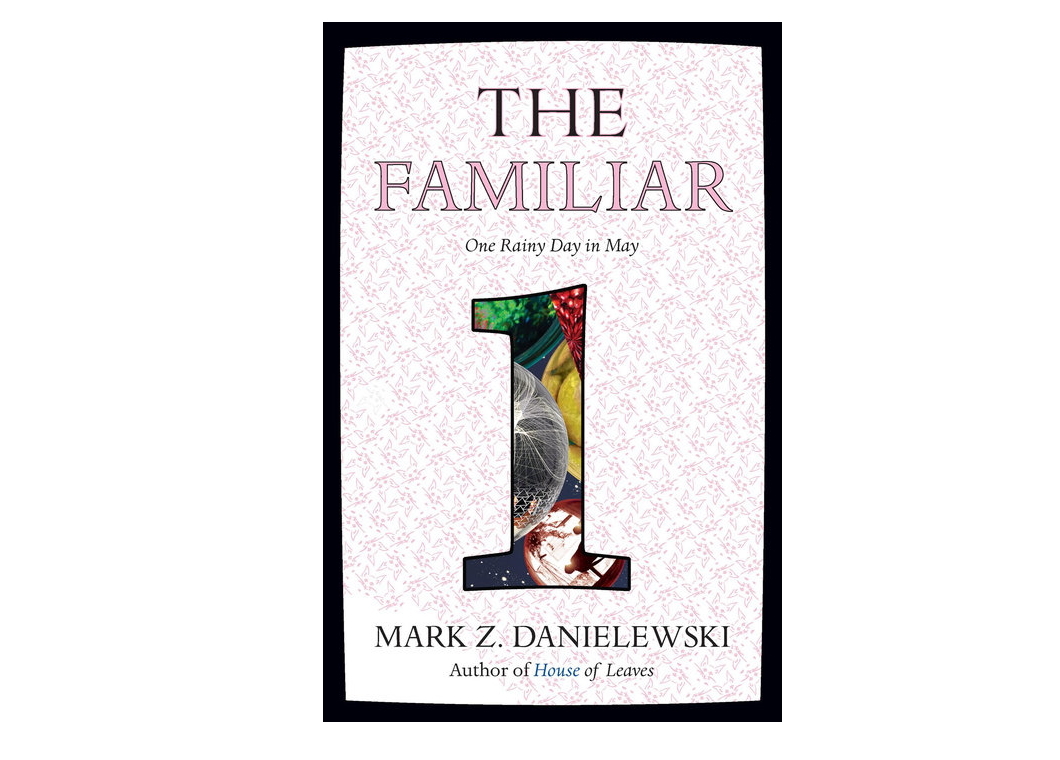
— По-моему, он о чем угодно, кроме кота.
— Он именно и прежде всего о коте. Я котолюб, хотя себя сравнил бы скорее с псом.
— Вы по крайней мере представляете, чем все закончится?
— Поверьте мне, я абсолютно точно знаю концовку, она продумана в мельчайших подробностях. Кстати, сочиняя «Дом листьев», я тоже в совершенстве продумал именно концовку. Которая в результате оказалась совершенно иной.
— Нэвидсон погибал?
— Нет, зачем же. Это же любовный роман, а не роман-катастрофа. Это книга-дом, а ведь главное в доме — архитектурные излишества. Отсюда огромное количество вроде бы не идущих к делу рассуждений о природе пространства, об эстетике домостроительства… В доме должно быть много нефункциональных, ненужных вроде бы пространств. Это дает возможность его обживать. Вы в курсе, что я профессиональный архитектор по самому первому образованию?
— В курсе и не совсем понимаю, почему вы, так зная европейскую архитектуру, поучившись в Париже, вернулись в Америку.
— Потому что моему жанру больше соответствует Лос-Анджелес. Вообще мне кажется, я транслирую дух этого города, и Джонни Труант в «Доме листьев» сильно похож на меня тридцатилетнего. Лос-анджелесский образ жизни с его сочетанием бешеной интенсивности, праздности, роскоши, трущобности, постоянного риска, с рано наступающей темнотой, жарой, соседством океана — все это настраивает на празднично-сумрачный лад. Потом, Европа была родиной триллера, а Америка — родиной хоррора, я различаю эти вещи.
— Как именно?
— Триллер — Хичкок, хоррор — Линч. Триллер — приятная рациональная дрожь, хоррор — иррациональный ужас.
Я настаиваю, что «Дом листьев» — любовный роман, потому что когда вы сближаетесь с другим человеком, вы вдруг обнаруживаете в нем неучтенные, непредсказуемые пространства, темные области его сознания, о которых он сам иногда понятия не имеет. И самое поразительное, что вы не можете составить его карту, потому что эти белые пятна по ней ползают, они не закреплены. Дом Нэвидсона — это и есть развернутая метафора чужой души, которая и есть самые непредсказуемые потемки, почему Нэвидсон в своей экспедиции по подвалу никогда и не может составить его окончательную карту. Хоррор как-то связан с большими пространствами, Европа для него тесновата.
— Америка действительно бывает очень страшна ночью на пустом шоссе.
— Ну, не думаю. Это вам потому страшно, что вы не здешний. На ночном шоссе нет ничего особенно жуткого, а вот какая-нибудь заброшенная ферма… Мне, в свою очередь, кажется, что очень страшно ехать по провинциальной России: ночью все не так, как днем.
— Россия совершенно не приспособлена для страшилок.
— Да что вы! А «Пикник на обочине»?
— Вам нравится?
— Ну а как же. Думаю, в мире это самая известная русская книга сегодня, особенно благодаря «Чернобылю». Но Чернобыль страшнее, потому что самое страшное кино — документальное.
— В России плохо делают фильмы ужасов и плохо пишут готические романы. Ужас держится на отклонении от нормы, но для этого должна быть норма. В «Повороте не туда» ужасное начинается с заброшенной автозаправки, а в России она никого бы не удивила.
— В бытовом смысле — да, но в России готическое мировоззрение как раз представлено широко. Достоевский с его идеей подполья, с его уверенностью в том, что человеческая природа нерациональна и недобра, что решения принимает подполье… Думаю, «Записки из подполья» чисто архитектурно повлияли на мою идею подвала.
— Все-таки у Достоевского и Стругацких хоррор — не самоцель.
— Уверяю вас, я тоже не ставил задачи напугать. Хорошо выходят только побочные задачи, то, к чему вроде бы не стремишься.
— Мне показалось, что эстетика «Дома листьев» сильно повлияла на кино нулевых — на «Звонок» Вербински, скажем. Сильнее даже, чем японский оригинал.
— Не знаю, как кажется ему, но я не сомневаюсь.
— Тут еще, понимаете, дополнительный ужас есть в том, что американцы живут в отдельных домах, в таком доме всегда страшно…
— Не знаю, где страшнее — в одиноком доме в пригороде или в квартирке в многоэтажном доме, где живет старик Зампано. Одному жутко, а с людьми-то, пожалуй, пострашнее.
— Почему Зампано? Вы так любите феллиниевскую «Дорогу»?
— Да, так люблю.
— Но он же там не слепой…
— Он слепой все два часа, а прозревает в последнем кадре. Духовно, да. Но героя я представляю именно таким — как Энтони Куинн.
— Почему с ним таинственно знакома мать Труанта?
— Потому что таинственно. Все таинственно. Все со всеми знакомы. Любой сосед по кафе что-то знает о нас непостижимым образом. Понимаете… притягиваешь же такие вещи. Я люблю, скажем, Дэвида Фостера Уоллеса — больше «Бледного короля», чем «Бесконечную шутку», потому что в «Бледном короле» восхищает меня титаническая задача — написать нескучную книгу о налоговом ведомстве. Некоторые пассажи у него симфонические просто, особенно финалы глав. И вот когда я читал о его самоубийстве, с ужасом представляя, как жена возвращается из магазина и застает его повесившимся… Я вдруг прочел, что жену его звали Кэрин Грин. А ведь так звали жену моего Нэвидсона. Клянусь вам, что я не знал о женитьбе Уоллеса. Да, собственно, он женился позже публикации «Дома листьев». Но — откуда бы я знал? Оттуда же, откуда сумасшедшая мать Труанта догадывалась о Зампано. Кстати, у Уоллеса был в библиотеке «Дом листьев» с пометками, свидетельствующими о пристальном чтении.
— Кто еще вам нравится из ныне пишущих?
— Рейчел Каск. Замечательная умница. Вообще многие, потом вспомню и буду терзаться, что не назвал.
— Вы чувствуете себя поляком?
— Я родился здесь. Мой отец, польский режиссер, никогда не говорил о Польше, вообще всю ту его жизнь как отрезало. Но я рад, что я соотечественник Романа Полански — вероятно, лучшего режиссера своего времени. Я не понимаю, как он пережил 1969 год и продолжает работать. Эталонные фильмы — «Отвращение», на приемах которого, на лейтмотивах и музыке, сделаны все лучшие психоделические триллеры, и «Одержимый» с Харрисоном Фордом. И «Дитя Розмари», естественно.
— Не могу не спросить, откуда в вашем имени это Z — Mark Z Danielewsky.
— Вы опять задаете хороший вопрос, но литература состоит из двух, что ли, слагаемых успеха. Первое — задать четкий и важный вопрос, второе — дать на него максимально таинственный ответ. Z — это Зампано, это зигзаг шпаги, это последняя буква алфавита…
— То есть английский аналог русского Я.
— И греческой омеги, воплощающей все тот же любимый мною круг.
— О политике даже спрашивать вас не хочется…
— Почему? Я вполне политизированный человек.
— И конечно, вы не за Трампа.
— Покажите мне в сегодняшней Америке, кто за Трампа. Даже те, кто яростно топил за него четыре года назад, сегодня проголосуют за него только от противного — потому что все остальные никуда не годятся. Ну, кроме того, мы в Калифорнии, здесь всегда к нему было прохладное отношение… Он вполне может выиграть в ноябре. Но это будет никак не моральная победа, выигрыш без любви.
— А о нынешней России что вы думаете?
— Нынешняя Россия внушает мне глубочайшую иррациональную тревогу, я жду больших и сумрачных событий.
Впрочем, сегодняшняя Америка внушает мне схожие чувства. Мир становится довольно опасным местом; переехал бы, да некуда.
— О творческих планах даже спрашивать неловко.
— Почему, я сейчас в самом приятном периоде — пре-продакшен. Подготовительный период, лучшая часть съемочного процесса. А самое жуткое время — завершение книги. Обязательно что-то случается в последний момент, чтобы повлиять на процесс и не дать вам дописать… Может быть, идеальным жанром стал бы неоконченный роман, так что и хорошо, что «Фамильяр» не дописан… В мае начну писать вестерн, сейчас собираю для него материалы, впечатления и неосознанные идеи. Леплю гнездо, все в дело.
— Вы занимаетесь чем-то, кроме литературы?
— Нет, и это принципиально. Литературой надо заниматься всерьез, не отвлекаясь, и мои книги меня вполне кормят.
— Вот вам 5 марта исполнилось 54. Вас не пугает эта цифра?
— Превосходная цифра. Силы еще есть, опыт уже есть, главное же — дает в сумме девятку. Любимое число.
— Вообще очень приятно вас видеть. И странно. Говорят, вы так неохотно появляетесь на людях…
— Да ведь это и не я.