Илья Кормильцев — Великое рок-н-ролльное надувательство-2.
3 сентября 2017 ● Петербургский альманах ФИНБАН
Вместо предисловия от редакции ФИНБАНА.
Печальная история русского рока так пока, к счастью или к несчастью, не обрела своего Макларена, который снял бы сиквел под названием «Великое рок-н-ролльное надувательство-2».
Печальная история русского рока так пока, к счастью или к несчастью, не обрела своего Макларена, который снял бы сиквел под названием «Великое рок-н-ролльное надувательство-2».
Ибо, как и в той британской истории, мы имеем дело со старинным филистерским трюком: конвертацией гнева поэтов в политический капитал власть имущих с последующей сдачей на расправу обманутой толпе сделавших свое дело мавров.
I
В свое время крестный отец панка Малькольм Макларен снял фильм о том, как он удачно продал уличный бунт британских недорослей испуганной буржуазии, окончательно потерявшей веру в будущее после бурного финала революционных 60-ых, нефтяного кризиса 73-го и дебюта палестинского террора на Мюнхенской олимпиаде.
– No future, будущего нет! — орал Джонни Роттен, и испуганные хозяева мира вторили полушепотом: — Yes, yes, no future…

На этом совпадении спроса и предложения веснушчатый шотландец и заработал свои миллионы. А потом слил секрет своего успеха в циничной ленте Great Rock’n’Roll Swindle (Великое рок-н-ролльное надувательство).
Печальная история русского рока так пока, к счастью или к несчастью, не обрела своего Макларена, который снял бы сиквел под названием «Великое рок-н-ролльное надувательство-2» Ибо, как и в той британской истории, мы имеем дело со старинным филистерским трюком: конвертацией гнева поэтов в политический капитал власть имущих с последующей сдачей на расправу обманутой толпе сделавших свое дело мавров.
В чем обычно обвиняют русский рок его критики, выползшие внезапно, словно черви после дождя, на могиле покойного, о котором, казалось бы, успели позабыть даже ближайшие родственники?
Они обвиняют его в том, что он послужил одним из инструментов разрушения Советской империи. И они отчасти правы. Но самозваные судьи в своем надрывном пафосе (каковой обычно выдает пристрастность суда) забывают об одном немаловажном для юриспруденции понятии — понятии умысла — и забывают неспроста.
«I was framed! Меня подставили!» — восклицают в критический момент герои типичного американского криминального боевика. Вместе с ними мое поколение — поколение тех, кто делал русский рок — может с полным основанием воскликнуть: «We were framed! Нас подставили!»
Вернемся на двадцать пять лет назад.
Мы не знали советской власти такой, какой ее замышлял Сталин, не говоря уже о призрачных на тот момент тенях Ленина и Троцкого. Мы выросли и возмужали при Брежневе. С его птенцами нам и приходилось иметь дело. Именно о них были наши ранние песни — о комсомольских цыплятах с оловянными глазками, веривших только в джинсы и загранкомандировки. О бездуховности и смерти веры. О войне против будущего во имя животных радостей настоящего — потных лобков млеющих комсомольских подруг в обкомовской бане. (Мне не хочется сыпать цитатами: пусть тяжесть доказательства противного лежит на обвинителях. Пусть они найдут хоть одну антисоветскую строку в доперестроечном русском роке — и я возьму свои слова обратно.)
Реакция на развертывающийся у нас на глазах процесс обуржуазивания была спонтанной и синхронной — это была стихийная реакция юных идеалистов на наличную фальшь социума. Типичный, как сказали бы сейчас, сетевой процесс. Узлы возникали, не подозревая о существовании друг друга, и только потом устанавливали между собой горизонтальные связи — на уровне двора, города, страны. Устанавливали медленно: так о существовании питерского андерграунда мы узнали в 1983-ем, когда у нас у самих за плечами было уже по несколько созданных групп и записанных альбомов.
В силу сетевой природы процесса каждый центр кристаллизации того, что позже получило название «русского рока», имел свою, отчетливо выраженную специфику: Питер наиболее был связан с западными веяниями, Москва никогда не могла до конца изжить свое родство с кухонными бардами предыдущего поколения, мы же (и сибиряки) были дики и безродны как Гог и Магог. Запад мы, конечно, уважали, но примерно как древние греки своих богов — без пиетета. Барды были нам точно не родня — Высоцкого (и Северного) сдержанно уважали, за упоминание же об Окуджаве или Галиче можно было конкретно получить в хлебало. Антисоветчина — что сам-, что тамиздатовская — вызывала однозначную враждебность.
Помню типичную сцену из поздних 70-ых: баня на задворках дачного участка, бутылка «Эрети», приемник «Спидола», напряженное вслушивание в лирический оргазм Роберта, скажем, Планта, пробивающийся через рев глушилок. И вдруг — Whole Lotta Love заканчивается, сразу же унимаются глушилки (да, да — их врубали в основном на музыке — за работу, господа конспирологи!) — и в эфире возникает квакающий эмигрантский голос, докладающий, говоря стихами Емелина:
«Про поэтов на нарах,
Про убийство царя
И о крымских татарах,
Что страдают зазря…»
И тут же чей-нибудь ленивый вопль: «Дюха, выруби этого козла, поищи еще музон!» Так что маленькая хитрость мистера Бжезинского не срабатывала: караси, обглодав мякиш, выплевывали крючок. (Или именно так и было задумано? Это нам объяснят конспирологи, которые, как известно, всегда правы.)
Когда мы перестали слушать чужой музон и начали делать свой, мы понесли его на показ советской власти — во-первых, потому, что нужно было получить литовку, во-вторых, потому что для нас это было не в большей степени походом в логово врага, чем для Мальчиша-Кибальчиша — визит в штаб Красной Армии. Нет, разумеется, мы не были тотально наивны — мы уже имели к тому моменту приличный опыт столкновения с мутноглазыми цыплятами, но считали, что у власти этот бесстыжий курятник тоже должен был вызывать некоторое беспокойство.
Цыплята встревожились. Больше всего их смущал тот факт, что мы пришли сами, а не были доставлены в кабинеты обкома милицией. Инструктор обкома по идеологии Виктор Олюнин задернул шторы, выглянул в коридор, закрыл дверь на защелку, ткнул пальцем в стопку текстов и прошипел драматическим шепотом:
— Вы понимаете, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!
Мы молчали.
— Это же ФАШИЗМ!
Но Олюнин сказал глупость и сам это понимал. Это не было фашизмом. Если бы рядом был дедушка Олюнина, он бы быстро объяснил внуку, что это — троцкизм и левый уклонизм, и, может быть даже, мелкобуржуазный анархизм, но в 82-ом году эти термины уже вышли из обихода… Своим идеологическим чутьём комсомольский цыпленок улавливал, что это — не совсем ТО, с чем его призывают бороться, но признать этого не мог, иначе бы пришлось и нас признать «своими». А нас нельзя было признать «своими» — ведь наша критика была направлена и в ЕГО, олюнинский, адрес. Но и замочить нас он не мог! Сейчас спустя 25 лет я бы его даже пожалел, да только что жалеть менеджера по кадрам УГМК-Холдинг? Так и над горькой судьбой Абрамовича начнешь проливать слезы…
Тем не менее, именно с этой встречи начались наши отношения с властью. Извилистый роман, который, как это не удивительно, до сих пор не завершен. И чтобы завершить его, не обойтись без ответа на болезненный вопрос: как вышло так, что именно мы привели их к власти? Как родился этот чудовищный симбиоз, в результате которого мы потеряли все, а они это все приобрели? Как это могло случиться?
II
Две самых стойких и расхожих легенды «про русский рок» это то 1) что сначала он «подвергался репрессиям», а затем 2) «КГБ организовало рок-клубы».
Все живучие легенды редко бывают стопроцентной ложью, их природа всегда лежит в зоне полуправды.
Репрессий не было. По крайней мере, я их не видел. Была вялая бюрократическая волокита, столь типичная для смертельно больного апатией и нерешительностью динозавра брежневизма. Бумажная возня идеологических чиновников, толком не понимающих, что им делать с этими дурацкими рокерами. Не имеющих ни привычки, ни желания решать что-либо без команды сверху. И когда команда, наконец, поступила, чиновники были безмерно рады. Содержание команды не имело ни малейшего значения: сказали бы «всех посадить!» — посадили бы, сказали бы «всех разрешить!» — разрешили. Возможно, где-нибудь в архивах ФСБ и валяется бумажка, на которой написано «организовать рок-клуб» — и что? С тем же успехом можно было написать «организовать лето» или «признать необходимым существование облаков». Мы просто были — как лето или облака. Другой вопрос, что теперь мы им понадобились. Не Олюнину, конечно, не простому обкомовскому цыпленку. Тем петушкам, что уже кукарекали на Старой площади и отчаянно придумывали, как им выжить из курятника обветшалую старую гвардию, по-прежнему лелеявшую пусть и жалкие, но все же рудименты неудобной красной веры.
Хотя кроме рациональной социальной истории есть и история мистических откровений. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что, не прислушиваясь к ней, ничего не объяснишь.
Последнее брежневское лето в Свердловске было умеренно жарким и приятно расслабленным. Мы только что записали «15» и альбом нужно было срочно копировать на бобины. Один «Акай» был у Андрюхи, но у всех остальных были только «Ноты». Тогда, в эпоху аналоговой техники, качество магнитофонов имело важное значение для успеха записи. Второй импортный бобинник нашелся у Таньки, с которой у Андрюхи тогда был роман. Но девушка сказала, что технику на вынос не даст, да и родители заругают. Пришлось Андрюхе таскать свою бандуру к Таньке, благо жили они в соседних подъездах обкомовского дома. Копий требовалось много, а перезапись в ту пору производилась исключительно в режиме реального времени. Даже флиртующей парочке бывало тоскливо так подолгу оставаться наедине: так в комнате Таньки в главной квартире города оказался однажды и я. С бутылкой, разумеется. Пили, слушали в сотый раз альбом, и тут в коридоре открылась входная дверь, расположенная прямо рядом с дверью в комнату, где сидели мы. «Хоре шуметь, — шикнула Танька.
— Отец пришел!» Мы замерли. Послышались шаги, которые сначала проследовали мимо нас, потом вернулись обратно. Дверь приоткрылась, и показался хозяин. Окинув взглядом комнату, тихо (дальше в глубинах квартиры скрывалась жена) сказал:

— Вижу, молодежь отдыхает? А как насчет того, чтобы отдохнуть с молодежью?
Андрюха сразу понял намек, вытащил из тумбочки нашу бутылку «Havana Club» и налил стакан. Взяв стакан в здоровенную неполнопалую лапищу, хозяин сказал:
— Давайте выпьем за вас, за молодых. Вы еще нам очень понадобитесь, — и потянулся стаканом ко мне.
Посмотрев в глаза этому человеку, которого я в первый и последний раз видел не на экране телевизора, я сказал как Штирлиц:
— Прозит, Борис Николаевич!
Глядя на могилы на солдатских кладбищах или на «аллеях бандитской славы», или даже вглядываясь во вполне благополучные, но полные какой-то животной, скотской тоски лица моих бывших коллег по русскому року, я понимаю теперь, зачем мы им понадобились.
Не буду врать — я не знаю, кто первым догадался, что «русским роком» можно воспользоваться (впрочем, как и всеми другими проявлениями социальной самодеятельности молодежи). Если пофантазировать, можно представить тайный визит Яковлева в Париж к стареющему Ги-Эрнст Дебору. За бутылкой вина забытый всеми ситуационист дает уроки detournement начинающему прорабу Перестройки. А десять лет спустя, осознав, чего натворил, Дебор пустил себе пулю в лоб. Порекомендовал же другу Саше обратиться к Ги еще во времена канадские некий Ламборн Уильсон — он же вручил перспективному партократу засушенные куриные ноги и научил, как наложить на мавзолей заклятие черного джинна.
Так оно было или как-то иначе, но все последующее оказалось триумфом вовсе не скучного кальвинистского неолиберализма, как наивно полагают многие, а именно Ситуационизма. Ни одно другое историческое движение не пользовалось техникой апроприации в таких масштабах. Все пошло в топку паровоза, увлекающего за собой «поезд в огне», — красные знамена и царские штандарты, унылое недовольство стоящего в очереди за водкой обывателя и суконные инвективы вермонтского занародстрадальца. Попали в нее и мы грешные. И нельзя сказать, чтобы нам это нравилось. С самого начала взаимного доверия не было ни на грош — а откуда бы ему было взяться? Слишком свежи были воспоминания о том, как те же люди, что теперь чуть ли не носили нас на руках, не давали нам ходу (никогда не забуду дрожащую руку Бурбулиса, которой он, услужливый как гарсон, разливал портвейн по стаканам в гримерке, уговаривая перед концертом господ музыкантов поддержать со сцены его кандидатуру.)
Видеть это было, безусловно, противно, но мы утешали себя тем, что нас, судя по всему, боятся. Выпускают пар в свисток, чувствуя свою историческую вину. И, на уровне рядового цыпленка, возможно, оно так и было. Но где-то в штабе удовлетворенно повторяли заученную на лекциях по истории марксизма бернштейновскую максиму «Движение все», заканчивая ее «а цель определяем мы».
Еще мы утешали себя тем, что сами не лжем. «Мы ждем перемен» — разве это не так? «Скованные одной цепью» — разве это не очевидно? «Твой папа — фашист» — а кто же он еще? Мы были слишком наивны, чтобы понимать: будущее принадлежит тому, кто владеет монополией на интерпретацию настоящего. «Мы ждем перемен», — пел Цой, а какой-нибудь Черниченко объяснял каких именно. «Скованные одной цепью», — пели мы, а какой-нибудь Коротич объяснял, что речь идет о шестой статье Конституции. «Твой папа — фашист!» — вещал Борзыкин, а «Новый мир» объяснял: да, таки фашист, потому что в детстве плакал, узнав о смерти Сталина.
Мы приезжали в Москву — и нас тут же, как кита рыбы-прилипалы, облепляли незнакомые нам благожелатели. Одни просто хотели заработать денег, и эти были самые безобидные. Другие же самозабвенно ваяли идеологические основания нового режима: «Как трудно быть молодым», «Маленькая Вера» (действительно, маленькая) — что там еще? «Любера»? «АССА»?
Третий Рим всегда прикармливал клиентелу из идеологических лакеев и проституток, находящихся в постоянном творческом поиске высоких покровителей. С падением советской парадигмы наступило их осевое время. И время нашего Позора. Хотя внешне оно и выглядело временем нашей Славы. Многие — самые чуткие и хрупкие — начали умирать под занавес восьмидесятых. Другие предпочли воспользоваться предложенной Гребенщиковым формулой «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет», хотя время для предательства каждый выбирал сам. У кого-то оно наступило в 1993, у кого-то — в 1996, а у кого-то — в 2005-ом.
III
Наибольшее подозрение вызывал размер толп. Нет, разумеется, артисту нравится, когда публики много. Стадионы и дворцы спорта после ДК и подвалов, не говоря уже о квартирниках, приятно возбуждали и тешили самолюбие. (А некоторые — как, например, «Алиса» или «Кино» — только в этих условиях смогли найти свою специфическую энергетику и стиль). Но одновременно это же и пугало: мы слишком хорошо помнили, что большинство этих людей еще пару лет назад слушали советскую попсу и западное диско — и вовсе не потому, что не могли достать самиздатовских магнитоальбомов — просто эта музыка больше соответствовала их запросам. Когда прожекторы перестройки выхватили из полумрака наши смущенные ряды, широкие народные массы слетелись на свет по тому же самому механизму, по которому на лампочку на дачной веранде слетается мошкара. Казалось сбывается (анти?)утопия БГ:
Еще немного, и сбудется мечта,
И наши люди займут места,
Под страхом лишения рук или ног
Мы все будем слушать один только рок.
Русский рок мыслил себя изначально как искусство довольно ограниченной социальной группы — или просто привык к такому положению за десять лет андерграунда. Поэтому когда с наступлением 90-ых стадионные толпы кинулись, топоча, в направлении афиш с надписью «Ласковый май» наступило не разочарование — облегчение.

Вторым кошмаром перестройки (после толп полюбивших рок гопников и мажоров) были те самые «интерпретаторы», о которых я писал выше. Они путались у нас под ногами, объясняли зачем и что мы делаем, и вообще мешали нам жить. В одной из своих статей Сергей Жариков (ДК) утверждает, что Артем Троицкий, Илья Смирнов и Миша Сигалов были тремя агентами КГБ, каждый со своим спецзаданием в отношении русского рока. Возможно, так оно и было, Жарикову видней, поскольку сам он, судя по всему, вел какую-то четвертую, особенно хитроумную разработку. Вообще каляевщина и гапоновщина была изначально присуща всей этой публике как в начале XX века, так и сейчас, в начале третьего тысячелетия. Они стучали друг на друга, поливали друг друга грязью сперва в своих самодовольных листках — «Урлайтах», «Контркультурах» и иже с ним, а потом уже и во всесоюзной молодежной печати. Их терпели, с ними общались, но не уважали. Поэтому когда они схлынули, как тараканы с квартиры с пустым холодильником, устремившись к разверзшимся зияющим высотам политической журналистики, нарождавшегося гламура и политтехнологий, никто не пролил скупой мужской слезы.
К 1990 году русский рок полностью утратил свою конъюнктурную привлекательность. Серебряная ложечка в форме гитары, которой разбивали скорлупу советской системы, была отложена в сторону, а те, кто ей орудовали, бросились, затаптывая соседа, в пробитую брешь делить мягкий белок и беззащитный желток реальных ценностей. Нас оставили там, где мы изначально и хотели быть — в покое. И началась золотая эпоха русского рока. Да, вопреки широко распространенному мнению я считаю, что именно 1990–96 гг. имеют право носить это имя. Именно тогда были записаны лучшие альбомы, сказаны главные слова, сыграны самые сильные концерты. Именно тогда музыканты занимались тем, чем они должны были в основном заниматься. Музыкой. Власть нас не замечала, а мы ее презирали — и это всех устраивало.
Для любителей исторических мифов достаточно будет сказать: если русский рок выражал идеологию победившей элиты, то где же тогда правительственные концерты в КДС? золотой дождь внимания и государственные премии? Нет, в Кремле пела и плясала истинная, посконная любовь кремлян — попса. Проводила «Рождественские встречи» дебелая Алла Пугачева, заводил свою вечно одинаковую песню с вечно разными словами лилипут Газманов, ублажали ресторанный досуг малиновых пиджаков «На-На» и Шафутинский. Рокеров не было на этом празднике жизни. (Пара-тройка орденков полученных теми, кто сдуру примчался на августовские баррикады, не в счет. Кого только на этих баррикадах не было! Без преувеличения две трети нынешних разоблачителей «антинародной олигархии» на них так или иначе отметились.)
Это — о тусовочных радостях. Если же говорить о творчестве, вы не найдете у рокеров вроде бы ожидаемых пеанов наступившим светлым временам. От «Московской Октябрьской» БГ до «Титаника» НП, от демонических кошмаров «Алисы» до разночинской тоски Шевчука (промолчу уж о конкретно политизированных Талькове и Летове) — все было наполнено ощущением надвигающейся катастрофы, подступающего кошмара, наставших темных веков.
Любить начальству нас было не за что, но и мочить — тоже невозможно. Вседозволенность была необходимым условием для реванша советско-антисоветского либерально-патриотического курятника и ее издержки полагалось воспринимать со стоической улыбкой, памятуя о том, что каждый ее день пополняет твой счет на несколько миллионов долларов.
Итак, подводя итог, в каком-то смысле для нас наступило новое подполье — только относительно сытое и комфортное. Безусловно, у этой ситуации, как и у всякой ситуации на свете, имелась своя изнанка. Имя ей было — коммерциализация. Потому что в новых условиях выжить могли только монстры. Весь же второй эшелон, молодая смена русского рока оказались обречены на вымирание в соответствии с суровыми законами социального дарвинизма.
Сколько великолепных групп погибло в начале девяностых! «Нюанс» и «Вежливый отказ», «Апрельский марш» и «Выход»… дополните список сами. Кто-то спекся, кто-то ушел в бизнес, кто-то эмигрировал… Это отсутствие резерва со временем сыграла трагическую роль в кризисе и последующем угасании русского рока.
Ну и становление капиталистической системы шоу-бизнеса. В 90-ые мы еще гордились тем, что, в отличие от попсовиков, сами набирали и увольняли директоров и никогда не проплачивали эфиры. Но было понятно, что общие законы рано или поздно возобладают — на то они и общие законы.
Если в СССР мы были вирусом в организме несвободы, подтачивавшем его изнутри, то в новой реальности мы сами оказались одной из многих временных автономных зон, паривших в мутном хаосе, поднятом падением Берлинской стены, и вирусы несвободы одолевали наc уже снаружи.
Инкубационный период закончился весной 1996 года. Как я умолял, как уговаривал Хипа (тогдашнего директора «Наутилуса») во время долгих, бесконечно долгих телефонных разговоров между Прагой и Москвой не делать этого! Он лепетал в ответ, что-то про деньги, про давление Лисовского и Стаса Н., про то, что отказываться никак нельзя. Я не то чтобы проявлял особую идейность и сознательность: я просто чувствовал селезенкой, что этого делать нельзя. Но мы очень гордились тем, что все решения в нашей группе принимаются коллегиально: чего стоила моя селезенка против мнения товарищей? «Наутилус», как и целый ряд других рок-групп, отправился в тур «Голосуй или проиграешь».
Я вовсе не хочу выглядеть рыцарем без страха и упрека. Я оказался немногим лучше своих сразу же капитулировавших перед натиском политтехнологов от шоу-бизнеса товарищей. Не прошло и пары месяцев, как теплым пражским утром я пошел и сам сделал это. Проголосовал за Ельцина.
IV
Бубенеч — район низкорослый. Особнячки, в основном посольские, утопленные в зелени; кривые, непредсказуемые улочки. Я с трудом нашел избирательный участок, показал паспорт, сделал шаг внутрь — и оказался в параллельном мире. Или совершил путешествие в прошлое — это уж кому как понравится. В моей родной школе №70 в дни советских выборов оборудовали точно такой же избирательный участок: зеленое пыльное сукно на тяжеловесных столах с инвентарным номером, притаившимся где-то с оборотной стороны свилеватой ножки, кабинки для голосования, похожие на католические исповедальни, в которых евразийская империя отпускает на день грехи своим гражданам, опустившим бюллетень в сухую безлюбую щель обшарпанного ящика. Откуда они взяли это все в центре Праги? Доставили тяжелым военным самолетом еще в те времена, когда Империя была в силе? Или закупили по дешевке на свалке уже здесь, списав валютные средства на якобы осуществленный евроремонт? Бог весть…

Отметившись в списке я, на ставших внезапно ватными ногах, направился к кабинке, утешая себя типичными рассуждениями онкологического больного: пойти на операцию — может есть еще какой-то шанс. Уклониться — конец неизбежен. Зашел в кабинку, поставил птичку, вспомнил былое-далекое и мысленно сказав: «Прозит, Борис Николаевич!» опустил бюллетень в ящик. Вышел из кабинки, прошел в соседнее помещение. Там заканчивалась имперская иллюзия: там был буфет, где удивительные для европейского города типажи пили водку из пластиковых стаканчиков, а затем гасили в них окурки под звуки разудалой песни «Да, мы — бандиты, да, мы налетчики…» Выскочил на улицу мимо пыльного посольского хмыря, вдохнул воздух полной грудью. Совокупление со старухой состоялось.
Я думаю, что все самое страшное, трагическое, кошмарное, произошедшее с нами в последующие годы было заслуженной карой за соучастие в этом акте сексуальной магии. Ведь в отличие от того сближения, что случилось десятью годами ранее, сделанное уже нельзя было списать на юношескую наивность.
Предвыборная кампания закончилась, все вернулось на круги своя. Заказчики расплатились с артистами по положенному прайсу и снова забыли про их существование. Этот цикл отношений с цыплятами (которые, впрочем, к тому времени стали шикарными петухами с хвостами от Версаче) повторится еще не раз. Словно те, запомнив, что есть такая волшебная и недорогая ложечка, которой в критический момент можно пробивать брешь, каждый раз по привычке хватались за нее, не замечая, что в ней все меньше звонкого серебра и все больше — тусклого, податливого олова.
Затем промчался бурный и дурной конец декады, устремившейся к миллениуму. Распалась при обстоятельствах достойных римейка рассказа «Проклятие гробницы фараона» моя группа. Прогремел дефолт, отделивший зубчатой пилой валютного курса время надежд от времени безнадежности. Сорвалось с ломких губ Лагутенко словечко «рокопопс», выкинутое как белый флаг окончательной капитуляции невозможного островка свободы перед циничной реальностью. И в тот самый момент в судьбе казалось бы уже окончательно списанного в архив русского рока случился новый поворот. Курятник в очередной раз перессорился между собой, выясняя, кто же будет сидеть на верхней жердочке. Цепкая лапка слетевшего с насеста и отброшенного ударом клюва аж за Ла-Манш петушка в очередной раз схватилась за спасительную ложечку.
По свидетельству очевидцев чудо произошло в одном из московских мебельных магазинов. Один молодой человек — еще совсем недавно преуспевающий директор столичной FM радиостанции, а теперь временно безработный — вышагивал по торговым площадям и подыскивал себе подходящий диванчик. (Или это был журнальный столик? Я не помню, да это, в сущности, и неважно.) Гораздо важнее то, что в этот момент в кармане у него зазвонил мобильный телефон. Молодой человек поднес к уху трубку и безразлично произнес: «Алло?» В следующее мгновение выражение его лица изменилось: «Да, Борис Абрамович, я слушаю!»
Как утверждает статистика, в мире существует не менее трехсот тысяч Борис Абрамовичей. Однако каким-то мистическим образом все невольные свидетели этого телефонного разговора поняли, с каким из них именно ведется беседа. По крайней мере, когда молодой человек закончил произносить в трубку бесконечные «конечно», «разумеется» и «я согласен» и осмотрелся по сторонам, он с изумлением отметил, что весь персонал салона — консультанты, продавцы, кассиры и охранники — в полном составе выстроился кружком вокруг него и напряженно взирает, словно на упавшего с неба марсианина.
История умалчивает о том, был ли куплен тогда диванчик (или журнальный столик?). Для нее важен тот факт, что в тот вечер на свет появилось «Наше радио». И вместе с ним наступил новый этап в жизни многострадального больного, по имени русский рок, которому реаниматологи никак не давали впасть в утешительную кому.
С полным основанием этот период можно назвать эпохой жесткого формата.
V
Уж так устроены люди, что никогда не избавятся от привычки давать хлесткие характеристики эпохам, векам и десятилетиям. Я тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Поэтому, говоря о нулевых годах, я не могу удержаться от искушения назвать феномен, который с полной силой проявился в этот период, не иначе как империя троечников.
Именно в этот период началась резкая смена поколений в правящей элите. Люди, имевшие какой-никакой, но реальный опыт управления в позднесоветский период, начали стремительно вытесняться шушерой, которая в те же годы не была еще допущена ни до чего большего, чем пустая болботня на комсомольских собраниях, перекладыванию секретных папочек с дутыми отчетами в домах дружбы за рубежом и тому подобной мелкобюрократической деятельности. Пятерочники ушли в большую жизнь — желательно нероссийскую, двоечники — полегли костьми на терках и разборках, а вот троечники ждали своего часа — и дождались.
Стоит ли говорить, что это были те же самые парни, с которыми мы уже встречались в начале нашего повествования. Те самые, что воспитывали рокеров в обкомовских кабинетах, писали постановления о работе с рок-клубами, литовали тексты песен. Конечно, теперь уже возмужавшие и окрепшие, избавившиеся даже от призрачной необходимости равняться на идейные предрассудки старших товарищей, зато в совершенстве освоившие искусство русского бригадного бизнеса — бессмысленного и беспощадного. Разумеется, эти люди теперь уже даже и не вспоминали о «проеханном» ими где-то в далекой комсомольской юности роке — их предвыборные кампании проходили не под аккомпанемент гитар, а под грохот терактов и вой установок залпового огня на последних стрелках с недобитой бандитской вольницей, которой предстояло разъяснить, что страну отныне будет крышевать только одна ОПГ.
Не сработала и затея использовать русский рок в качестве точки сборки оппозиционных сил. Сменилась не только политическая элита — сменилось также поколение, из которого вербовались музыканты и их слушатели. На место людей, прошедших школу социализации в брежневские и перестроечные годы и понимавших, говоря словами Дмитрия Быкова, что такое «бесперспективность частной жизни» в тех условиях, воспринимавших свободу, как болезненное, но необходимое условие существования, пришли те, для кого совок несчастливым образом оказался синонимом уютного, внутриутробного детства, а растительное существование без великих потрясений — наилучшим способом бытия. Империи троечников идеальным образом соответствовала музыка троечников, пропагандируемая «Нашим радио». Музыка, которая могла вызвать из всех мыслимых видов бунта разве что какую-нибудь бестолковую ходынку на очередном пивном фестивале с втаптыванием тинэйджерами тинэйджеров в размокшую от дождя подмосковную грязь. Музыка, которой даже вполне реальная трагедия взрыва в Тушино не смогла придать ни грана героического ореола. Потоки унылого бренчания, в котором даже самые талантливые исполнители, вроде Земфиры, все равно звучали лишь как жалкое эхо Жанны Агузаровой или Янки Дягилевой.
Тогда-то и всплыло некогда пущенное Федором Чистяковым в порядке самоиронии словечко «говнорок», только теперь никакой иронии в нем не было — констатация голого медицинского факта.

Уж не знаю, на что рассчитывал спонсор телефонного разговора в мебельном салоне — том самом разговоре, о котором упоминалось несколько выше и с которого и началось «Наше радио» — поддался ли просто буйному полету своей фантазии (в это легко можно поверить, учитывая бесславный финал всех прочих его антикремлевских затей) или же его молодой собеседник, ставший генеральным директором рупора говнорока, сразу же сдал затею с потрохами «кому следует» (ходят и такие слухи), и начал счастливо зарабатывать презренный металл на рискованной, но хлебной должности двойного агента. Но кроме вот это самого жесткого формата (радийного синонима клонирования беспомощности по методике овцы Долли), а также окончательного низведения русского рока в лимб развлечения для социальных лузеров (моя клубно-электронная дочь в тот период увлеченно мне сообщала: «Рокеры — они такие… грязные, стоят целый день в подземном переходе, лузгают семечки, пьют дешевое пиво и курят LM…»), эпоха «Нашего радио» ничем более не прославилась. (Следует, впрочем, отметить, что для империи троечников именно жесткий формат, т.е. вычеркивание всего отклоняющегося от контролируемой посредственности и есть основная метода управления — так что результаты его применения очевидны нынче не только в области музыки.)
Тут, вроде бы, и наступила самая пора забить окончательный осиновый кол в неглубокую могилку усталого Дракулы фон Франкенштейна, известного также как «Русский Рок», если бы очередное заклинание, которое принес с майдана южный ветер, в очередной раз не воскресило дряхлое чудовище.
VI
Паника, охватившая кремлевскую элиту после осенне-зимних украинских событий 2004 года, была бесстыдно откровенной. Как известно в 1949 году тогдашний министр обороны Джеймс Форрестол выбросился из окна с криком «Русские идут!» Так вот зимой 2005 года складывалось впечатление, что если бы в Кремле (или на Старой площади) появилась большая группа строительных рабочих в оранжевых тужурках, из окон административных зданий посыпались бы, словно на картине Магритта, самоубийцы в дорогих костюмах. Сейчас уже не столь важно, откуда исходила та паническая волна — с самого ли верха или же ее искусно поднимала политтехнологическая братва, предвкушая распил денег, выделенных на борьбу с «оранжевой угрозой» — важно, что волна поднялась. А тут еще — очень ко времени — и «льготные волнения», которые напомнили обитателям Пентаграммы о том, что народ может однажды оторваться от созерцания Петросяна и стать субъектом реальной политики.
Неважно и то, что (как заметили многие трезвые аналитики) Майдан был скорее специфическим украинским римейком августа 1991-го, чем пророчеством будущих кремлевских бед — у страха, как известно, глаза велики. Так или иначе, началось тревожное вглядывание в оранжевую бездну, в ходе которого не могла не обнаружится серьезная мобилизирующая функция, которую сыграла в период «стояния» популярная музыка. Вот тут-то власть и вспомнила впервые за долгое время про этот «дурацкий рок», который, оказывается, может что-то сделать и сейчас, а не только в те стародавние, ушедшие обкомовские времена.
Мысль власти определялась тупым бандитским прагматизмом: раз Сердючка не помогла Януковичу, а Вакарчук помог Ющенко — вакарчуки должны стать нашими (поскольку сердючки таковыми являются по определению — точнее, по факту выплаты гонорара) Комсомолец (и гебешник) как дрессированный медведь умеет делать только то, чему его однажды учили. Память услужливо подсказала решение: нужно срочно организовать кремлевский рок-клуб.

Нельзя сказать, что буквально всех туда пришлось затаскивать силком — некоторые стареющие рокеры, чувствуя поредение слушателей и уменьшение гонораров, рвались к престолу сами. В частности, Борис Борисович Гребенщиков — большой любитель Кремля и карамели, незадолго до этого награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Очевидцы утверждают, что «посол рок-н-ролла» ждал от «неритмичной страны» гораздо большего — звания народного артиста или там Госпремии. Но в день юбилея ему принесли в гримерку обидное наградное свидетельство и небольшой белый конверт без опознавательных знаков. Открыв влажными от волнения пальцами конверт, юбиляр обнаружил в нем фото, на котором где-то в недрах лондонского ресторана его обнимал за пьяные плечи Борис Абрамыч Березовский, а Ахмед Халидович Закаев подливал в стакан виски. Наивный автор «Поезда в огне» имел теперь дело не с возвышенным полковником Васиным, а с мелкими мафиози, взращенными на Марио Пьюзо и на бессмертной максиме «Мы помним все и редко прощаем».
Так или иначе жалкие остатки «легенд русского рока» удалось к весне 2005 — кого посулами, кого угрозами — стащить перед светлые очи Владислава Суркова на анекдотическое совещание, по которому впоследствии не прошелся только ленивый. Встреча помощника вождя с мастерами искусств в сухом остатке свелась к двум историческим решениям: созданием продюсерского центра на площади Ильича и обещанием установить квоту на радио и телевидении на ротацию русского рока в ущерб попсе. Второе решение к счастью так и не было выполнено (тут Большая Политика столкнулась с единственным более значимым, чем она сама, фактором в РФ — Большим Баблом). Центр же начал свое бесславное существование. Очень скоро выяснилось, что никто из музыкантов, кроме разве уж совсем молодых и совсем продажных, не желает подписывать странный контракт, в котором одним из пунктов стоит неучастие в концертах и мероприятиях, не одобренных продюсерским центром. Причем вовсе не из-за высокой идейности, а из простого понимания, чем такая кабала светит в долговременной перспективе.
Без работы, впрочем, центр не остался. Кроме снабжения слетов нашистов и младоросов халявными концертами звезд за государственный — то есть, за наш с вами — счет, у него нашлась еще одна достойная задача.
Следует понимать, что в глубине своей птичьей душонки комсомольские цыплята всегда подсознательно завидовали рокерам. Еще бы! Это отребье оттягивалось в полный рост, пока они большим коллективным Молчалиным изображали умеренность и аккуратность в приемных партийных дедушек-Фамусовых. И, разумеется, девчонки — по крайней мере, самые симпатичные и отвязные — смотрели ясно в чью сторону. Теперь, когда все бентли скуплены, все яхты отремонтированы и все бабки вывезены в оффшор, можно, наконец, зализать вечную, гноящуюся рану всех троечников — посредственность.
Я звоню своему старому другу-продюссеру. Звоню я ему редко, говорить-то почти не о чем.
– Ну как там, у вас, закончили сводить Славин альбом?
– Да, закончили.
– И чем же теперь занимаетесь?
– Как чем? Снимаем клип для Джохан.
– Ни хрена себе! Так вы скоро дойдете и до того, что у вас и Сам запоет…
(Смех)
– Кто знает, кто знает. Не исключено любое развитие событий.
Пока этого вроде бы не случилось. А жаль. Это было бы логическим завершением истории русского рока.
Я так и представляю себе нервничающего Владимир Владимировича перед выходом на сцену: опрокинута рюмка текилы, вдут паровоз, всосана последняя дорожка. По плечу дебютанта похлопывает другой Владимир Владимирович — Шахрин.
– Не робей, Вова, прорвемся! Все это рок-н-ролл!
Седой Кинчев, из кармана куртки которого то и дело высовывает любопытную головку дьякон Кураев, довольно улыбается — ведь Президент будет петь сегодня именно его песню. Только вот как быть с неудобными строчками:
– Ну конечно, мы все педерасты,
Наркоманы, фашисты, шпана.
Как один социально опасны
И по каждому плачет тюрьма…
Кинчев тревожно смотрит на Президента. Но тот только загадочно улыбается: у него в кармане лежит клочок бумаги, на котором рукой то ли Шевчука, то ли Гребенщикова написано:
– Ну конечно мы все элита,
Патриоты, спортсмены, гламур
Как сказал однажды Конкин Никита
«Юганскнефтегаз — мон амур!»
Раздается рев публики. Вокалист, зажмурившись, делает шаг из-за кулисы и идет к микрофону. Он открывает глаза и ужас охватывает его. Рев публики был записан на пленку, заранее подготовленную Добродеевым и Эрнстом.
Зал пуст.
Впрочем, зрители все равно не увидят этого по телевизору.
Эпилог
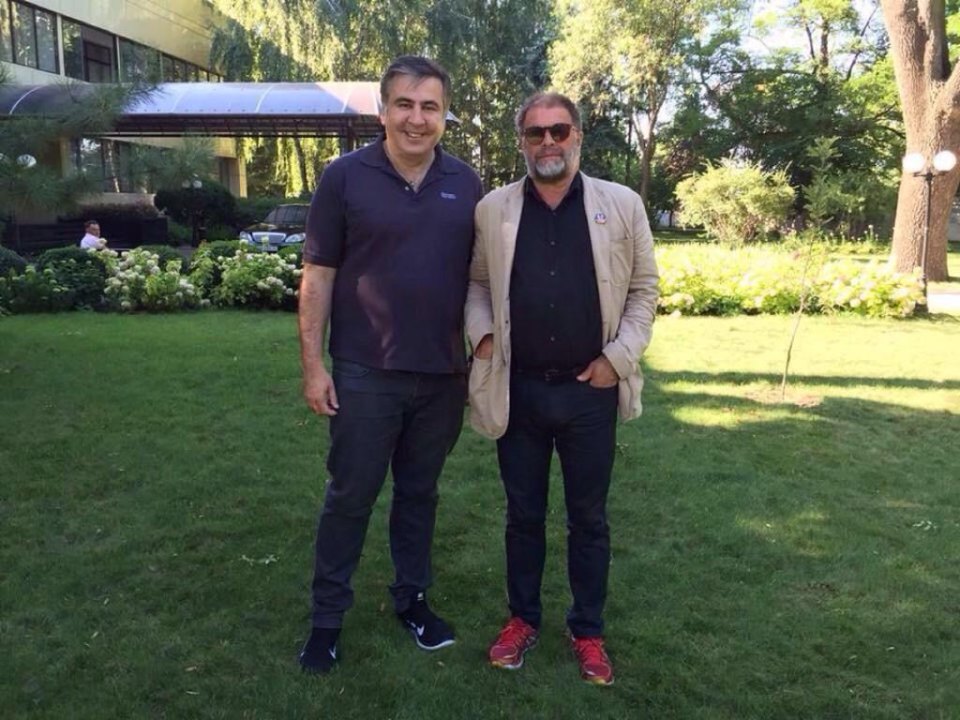
Как это не банально звучит, у любого явления искусства есть две стороны и две истории. Одна соответствует его метафизической сущности и обращена к вечности. Другая обращена к своему времени и соответствует сущности политической.
Политическая история русского рока по преимуществу завершена, так же как завершилась парой десятилетий раньше политическая история рока западного. Явление искусства не может долго служить точкой сборки социальных чаяний: так рок-н-ролл в западном мире еще долгое время оставался символом незавершенных революций шестидесятых. А потом выяснилось, что символ мертв — монстра рока выгрызли изнутри мыши шоу-бизнеса и термиты MTV.
Примерно то же самое случилось и с русским роком, как только окончательно исчерпал свою инерцию импульс ожиданий, сформированный в 1980-е. В этом случае обыкновенно остаточную символическую ценность пытаются присвоить себе носители противоположного дискурса, а сами создатели смысла эволюционируют en masse традиционным путем — от бунтарей к охранителям. Это случалось неоднократно в прошлом, это случится еще не раз в будущем.
Люди, прикрывающие ладонью зевок на какой-нибудь современной постановке «Эрнани», могут только недоумевать, каким образом эта запутанная разбойничья история послужила детонатором к июльской революции 1830 года и окончательному падению дома Бурбонов. Разумеется, это не мешало политическим троечникам во все времена — в попытках внести смысл в свою бессмысленную власть — хвататься за устаревшие орудия культурной войны, не понимая того, что порох в них отсырел. Ведь им просто не по силам предугадать ту новую точку, в которой общественная эмоция начинает вызревать в кристалл мобилизующего смысла — иначе они были бы революционерами.
На сегодняшний день ясно только одно — точка эта не имеет никакого отношения к русскому року. Потому что снаряд никогда не попадает дважды в одну воронку.
Метафизическая же история русского рока продолжается и будет продолжаться, пока на Земле остается хоть один человек, у которого будут звучать в сердце песни чужой молодости.

Бастрыкин и Гребенщиков
ссылка
Илья Кормильцев
июнь-июль 2006
Впервые опубликовано здесь: http://karmakom.livejournal.com/?skip=20
ПОСЛЕСЛОВИЕ
от редакции ФИНБАНА
«С Джонни Роттеном я встречался лет шесть назад, когда у Sex Pistols был последний мировой тур — воссоединение. Они играли в Санкт-Петербурге, в «Юбилейном», а потом мы с Роттеном катались на кораблике по Неве. Я, Панкер и масса наших друзей и знакомых. Говорили с Джонни — он по-прежнему социалист и по-прежнему клял Европу — а заодно и капиталистическую уже Россию.
Любопытно. Я привык, что Россию нынешнюю проклинают либералы-оппозиционеры, условно говоря, кричащие о том, что «мало капитализма», что «капитализм не тот», не правильный… Что нужно «всё как в Европе»… «ценности»…
Роттен же как от огня от этих ценностей бежит и нам всё говорил, что не ценности это никакие, а дешевый и страшный развод… Да мы и сами уже всё понимали. А сейчас понимаем еще больше. Вот такая была встреча с кумиром юности. Не сказать, чтобы печальная, нет. Было весело. Но странно.
Всё повернулось на 180 градусов. И мы снова с Роттеном, и снова против. Против «европейских ценностей». Удивительные вещи делает время».
finbahn.com/вот-такое-кино/