Последняя тайна советской литературы
27 февраля 2020 ● "Горький"
К 125-летию со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича Иванова.
В сухом остатке есть вот это. Сибирский недоучка и бродяга, куплетист, борец и факир в заштатных цирках приезжает по личному вызову Горького в Петербург в 1921 году. Входит в состав блистательной литературной группы «Серапионовы братья». За какие-то пять-шесть лет, будто и впрямь провернув фокус, становится советским классиком и крупным литературным начальником. А потом — при полном внешнем благополучии, квартире в Лаврушинском и даче в Переделкине — все свои самые сокровенные вещи пишет в стол. Неопубликованное или опубликованное с цензурными искажениями издается и уточняется с середины 1980-х, но тиражи упали сегодня до 200 экз. Читатели если и помнят о Всеволоде Вячеславовиче, то лишь как об отце Вячеслава Всеволодовича, всемирно известного филолога. Интересуются только специалисты. Они называют писателя «последней тайной советской литературы», но почему-то не говорят, в чем именно она заключается. 125-летний юбилей — хороший повод со всем этим разобраться.
Аргумент революции
Для начала надо разобраться с самим юбилеем. На самом деле он уже прошел: Всеволод Иванов родился в 1892 г. Он просто «убавил себе годы, спасаясь от колчаковской мобилизации». Так это поясняет в своих мемуарах вдова писателя. Дату она запомнила четко, потому что вместе с некоторыми другими архивными документами сама передала паспорт мужа в рукописный отдел нынешней РГБ.
Три года назад никто юбилей не отмечал. Вс. Иванова вообще как бы нет сегодня. Ладно читатели — даже писатели о нем помнят плохо, включая и тех, кто в 2010-е годы активно обращался к советскому опыту. Захар Прилепин, например, выступил с биографиями Леонида Леонова, Анатолия Мариенгофа, Бориса Корнилова, Владимира Луговского, Сергея Есенина. Про Мариенгофа написал еще и Олег Демидов. Сергей Шаргунов выпустил книгу о Валентине Катаеве. Иванов если и упоминается, то лишь эпизодически. Дмитрий Быков в своем расширенном курсе советской литературы тоже не удостоил его отдельной главы. Нет писателя и в нашумевшей некогда «Литературной матрице» — ни в томе за ХХ век, ни в специальной «советской Атлантиде».
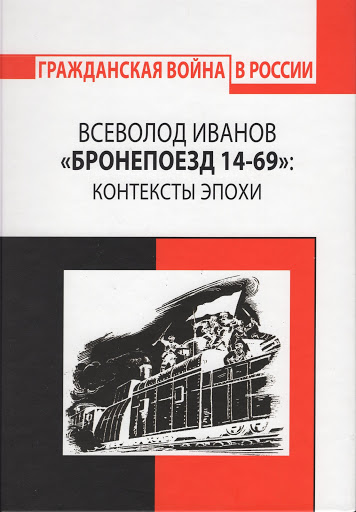
В то же самое время выходят многостраничные научные издания: «Неизвестный Всеволод Иванов» (2010), сборник рассказов «Тайное тайных» в серии «Литературные памятники» (2012), «„Бронепоезд 14–69”: контексты эпохи» (2018). Это все потрясающее чтение, но усилия исследователей действительно сосредоточены на контекстах эпохи и целостного взгляда на творчество писателя не дают.
Впрочем, огромное спасибо и за контексты. С их помощью становится ясно, что, убавлял себе годы наш автор или нет, от мобилизации в действующую армию его спасло не это. Его спас коллега по перу Антон Сорокин, «король сибирских писателей» и «Нобелевский кандидат», как он сам себя называл. Дело происходило в 1919 г. в Омске, на ту пору третьей столице России, благодаря присутствию в ней Верховного Правителя В. А. Колчака. Сорокин устроил парня во фронтовую газету «Вперед», редакция которой находилась в особом агитпоезде. Парень сначала работал наборщиком, потом стал еще и заметки писать.
Заметки были огненные: «... Общество принимает в свои руки тяжелую секиру, которой... будет размозжена голова большевизму», «... страдающая под пятой красных широкая народная масса вздохнет свободно и с верой в светлое будущее России». А про истоки Октября писал так: «Вначале Вильгельм II плюнул Лениным. С этого почтенного плевка и началось».
Забавно, но именно из этого опыта родилась главная из «Партизанских повестей» Иванова, «Бронепоезд 14–49». «Можно с уверенностью утверждать, — пишет Е. А. Папкова, крупнейший на сегодня исследователь и публикатор наследия Вс. Иванова, — что в основе „Бронепоезда 14–69” лежит биографический опыт писателя, в 1919 г. находившегося в колчаковской столице и на „белом” фронте». Вот так. А ведь виднейший литературный критик тех лет А. Воронский в письме Ленину радостно сообщал, что Иванов — уже «целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш». Наш! Потом он стал еще и «наглядным аргументом революции». Это амплуа сохранялось за ним все советские годы, заслоняя остальные воплощения.
Метаморфоза с Лениным вообще забавнее всего. В инсценировке повести в МХТ, окончательно сделавшей из Иванова советского классика, есть сцена «распропагандирования» захваченного в плен партизанами американского солдата-интервента. Его просто берут руками за голову и прямо в лицо кричат: «Ленин! Ленин!» Это для того, чтобы, не зная русского языка, он только по одному имени великого вождя понял, что у мужиков на сердце, что такое революция и какие сволочи — империалисты. Он понимает. Даром что Ленин был плевком.
Один во множестве
«Бронепоезд...» — сам по себе отдельная тайна в творчестве Иванова. Причем если произведение сегодня почти забыто, то тайна продолжает жить и тиражироваться, и совсем даже не по 200 экз. Вот смотрите: В. Пелевин, «IPhuck 10». Главный герой, полицейско-литературный робот Порфирий Петрович, видит на афишной тумбе слова «Бронепоезд 14–69». Не понимая, как и многие сегодня, о чем речь, он берется прояснить ситуацию, тем более что для этого ему достаточно на несколько секунд нырнуть в Сеть. Вообще-то это может сделать кто угодно, и поисковики единодушно укажут именно на Вс. Иванова, его пьесу, повесть, покажут фотку полноватого круглолицего человека в круглых очках, очень похожего на Андрея Бочарова в образе Сынульки из древнего комедийного сериала «33 квадратных метра». Порфирий находит другое — вариации на тему кодового лозунга 14/88, придуманного белым националистом из США Дэвидом Лэйном. 14 — число слов в главной заповеди этого самого Лэйна, 88 — закодированное нацистское приветствие: Н — восьмая буква немецкого алфавита, ее удвоение дает не что иное, как Heil Hitler. Гитлер в России никогда популярен не будет, считает Порфирий, поэтому его код заменен цифрой 69. Она сегодня в расшифровке не нуждается — поза для орального секса. «... Последняя белая территория Земли, — подытоживает робот, — осознает себя в этом качестве, но настроена мирно, отвергает расизм, фашизм и ксенофобию и готова при необходимости к компромиссу».
Если ничего не знать об ивановском бронепоезде, то все это даже не очень смешно. Но если знать, и в особенности о существовании множества вариантов этого как бы канонического текста, то получится, что Порфирий дал попросту еще один такой вариант и тем самым вплотную подошел к тайне ивановских множеств.
Но лучше по порядку. На всякий случай и в повести, и в пьесе, и потом в киносценарии говорится о захвате приморскими партизанами белогвардейского бронепоезда, направленного на борьбу с ними в тайгу. Партизаны приводят состав в город (это Владивосток) и обеспечивают поддержку вспыхнувшему там восстанию рабочих. Символика очевидна: мощь народной стихии такова, что мужикам ничего не стоит голыми руками захватить железного монстра и направить его против прежних хозяев. Но настоящий символ должен быть убедителен и с житейской точки зрения. И вот с этим проблемы. Если вдуматься, то что бронепоезду делать в тайге, мотаясь вдоль линии взад-вперед? Так ли уж эффективны будут его действия против партизан? С чего им, например, дружной цепью выходить к насыпи, прямо под дула пулеметов, как это описывает Иванов? Да и в городе, во время уличных боев с повстанцами, нужен ли бронепоезд?
Повторимся: спасибо контекстам эпохи. Они многое прояснили. Маятниковые движения состава вдоль линии якобы с целью распугать партизан — это пришло от агитпоезда. Это он «курсирует... по прифронтовой зоне, главным образом в районе Петропавловска и Ишима, и периодически возвращается в Омск, „отстаиваясь” в тупике, обрабатывая собранный материал». А что касается восстания, то его прообразом послужил эсеровский мятеж во главе с чешским генералом Р. Гайдой против колчаковского правительства во Владивостоке в ноябре 1919 г. Мятеж действительно был подавлен с помощью бронепоезда, но тут как раз все понятно: Гайда с ребятами засели в здании железнодорожного вокзала. А вот у Иванова рельсы проложены из тайги прямо к портовой крепости. Почему они не нигде не привели в вокзальный тупик, в приморском-то городе, непонятно.
И таких непоняток в «Бронепоезде...» — целые россыпи, они буквально на каждой странице. Иванов чувствовал слабость своих мотивировок (да и коллеги ему на них указывали) и начал вносить в повесть поправки, едва подготовив ее для первой журнальной публикации (1922). Но сколько раз можно править текст? Какую ни назови цифру, ясно, что важна не она, а то, чтобы в процессе переделок автор все ближе и ближе подходил к некому надмирному подлиннику, к эйдосу произведения. У Иванова совсем иное. Едва ли не самой характерной чертой писателя была его неспособность к авторедактуре: он не мог себя править, а просто писал набело новый вариант. Только для повести «Бронепоезд 14–69» специалисты насчитали целых четыре редакции и для каждой — по несколько вариантов. А ведь были еще и редакции одноименной пьесы, и киносценария. Иванов переписывал свое детище до самой смерти в 1963 г., тем самым превратив дебютную вещь в авторское завещание. Вопрос: в чем оно может состоять, если даже робот Порфирий продолжает его переписывать, ничего уже не помня о завещателе? Не тут ли и скрыта последняя тайна советской литературы?
Множество в одном
«Бронепоезд...», безусловно, самый наглядный у Иванова пример, когда произведение, даже главное, превращается в целый рой редакций и вариантов. А ведь главных книг тоже было несколько. К ним относят еще и сборник новелл «Тайное тайных» (1927), романы «Похождения факира» (1935), «Кремль» и «У» (эти два изданы посмертно). По количеству печатных редакций и вариантов «Бронепоезд...» — абсолютный чемпион. А вот «У» был создан на одном дыхании и никогда не подвергался ни внешней, ни авторской редактуре. Что если подойти к разгадке тайны с этой стороны — так сказать, от противного?
Здесь тоже не без оговорок. Иванов написал не совсем то, что хотел. Вообще-то он задумывал роман под названием «Корпус „У”». Литера означала только и единственно «ударников», рабочих, призванных на разборку руин Храма Христа Спасителя и подготовку строительной площадки для Дворца Советов. Храм в тексте остался, но ударников сменили нэпманы-обыватели самого мелкого разбора, а вместо корпуса передовиков-строителей появился ветхий дом в форме яйца на Остоженке, где автор и собрал этих «бывших» людей. Метаморфоза даже почище той, что случилась с колчаковским агитпоездом: думал показать нового человека, а получились какие-то мертвые души или даже люди-вещи. «В дверях показалась широкая и квадратная, словно письменный ящик, голова цвета картофельного пюре с вялым носиком, похожим на детский рожок. Киселеобразный рот раскрылся: плоская, длинная атлетическая рука протянулась к нам с явным приветствием».
Иванов потом спохватился и попробовал написать роман про ударников, «Багровый закат», но это получилась уже совсем новая вещь, а не редакция или вариант, и до такой степени неудачная, что у писателя даже мыслей не возникало ее напечатать. Так что «У» с этой точки зрения безальтернативная реальность. Но в плане самого текста — это, напротив, безудержное кишение альтернатив и версий происходящего: множество в одном.
В центре действия стоит как будто бы доктор Матвей Андрейшин (психиатр, профессор). Повествование ведется от лица его приятеля Егора Егорыча, счетовода из психиатрической клиники. Эти парни вообще-то собирались не на Остоженку, а на вокзал: Андрейшин — чтобы ехать на съезд криминологов (не психиатров) в Берлин, счетовод — в дом отдыха под Минском. Но профессору вдруг понадобилось навестить Сусанну Мурфину, в которую он влюблен. Она живет как раз в доме-яйце, и приятели застревают в нем до конца романа. Андрейшин, с одной стороны, хочет добиться от Сусанны взаимности, нейтрализовав соперников (он их видит в каждом жильце дома), а с другой — собрать материал для будущих психиатрических исследований, поскольку многие здешние обыватели явно с придурью.
Главным объектом этих исследований становится как будто бы Леон Ионыч Черпанов, уполномоченный по вербовке рабсилы для строящихся на Урале заводов. Кем он уполномочен, толком непонятно: с одной стороны, есть секретный пакет с девятью печатями, а с другой — уполномоченный существует как бы нелегально. Счетовода это страшно смущает.
«— Леон Ионыч, а не кажется вам нелепым, что для вполне легального, государственного и даже поощряемого предприятия мы должны жить и дейстовать нелегально?
— Я и сам так думал, Егор Егорыч, до той поры, пока не сбрил усы, а сбрил — и мне подумалось, что чем крупнее предприятие, тем в нем больше тайн, хотя бы это и предприятие заготовляло одно молоко. Вот обратите внимание на сырки, которые выпускает „Союзмолоко”. Сырок в мокрой бумажке, и цена-то этому сырку пятнадцать копеек, и едят-то его преимущественно дети, а какой лозунг напечатан крупнейшим шрифтом на обертке: „Оппортунизм — худший враг пятилетки”. Поройтесь-ка в „Союзмолоке”, вы там и не такие тайны найдете!»
Ну мы как раз в тайнах и роемся. За каждого завербованного Черпанову обещали денег, снова неясно, кто именно и легально или нет. Герой напоминает сразу и старорежимного Чичикова, поскольку скупает мертвые души, и советского Христа: он заглянул в эту клоаку на Остоженку, специально ища людей поплоше, чтобы не просто отвезти их за Урал на новую работу, но еще и обеспечить им моральную перековку в процессе труда и нравственное воскресение для новой жизни. Они в нем тоже очень заинтересованы, потому что остро осознают свою неуместность в наступившей эпохе и чают спасения.
Егор Егорыч становится секретарем Черпанова и ближайшим соратником в его миссии. Андрейшин тоже приглашен, но как-то все больше занят нейтрализацией предполагаемых соперников. Соперники в большинстве своем оказываются липовые (кроме Черпанова), но бьют доктора по-настоящему за его бесконечные безумства: он то лезет в печь, то ходит на ходулях, то гоняет на реактивном велосипеде, грозя сжечь весь дом. Эпические драки, как в комедийных вестернах, не утихают на протяжении всего романа. Он и кончается побоями и погоней. На сей раз достается Черпанову. Работа уполномоченного была как бы прикрытием, а на самом деле ему следовало по заданию преступных братьев Лебедевых, тоже из-за Урала, добыть корону американского императора (sic!), будто бы спрятанную в доме на Остоженке. Леон задание провалил. Братья лупят его, как куклу, но он вырывается и сбегает. Жильцов дома-яйца всех разом забирает милиция — причем по доносу тайного заправилы всего этого логова дяди Савелия. Доктор и счетовод, пропустив один — конгресс, другой — отдых в пансионате, расходятся по домам. Конец.
«Уууу , какая сильная вещь!» — скажет иной читатель. «Уууу, совсем у парня плохо было с головой!» — скажет другой.
Ходят слухи
Александр Гольдштейн, один из самых рафинированных критиков конца 1990-х — начала нулевых, в своем эссе «Лучшее лучших» поместил «У» рядом с «Котлованом» и «Доктором Живаго». Это один полюс оценки. Другой полюс обозначен Д. Быковым в его статье об Иванове в журнале «Дилетант» (№ 3, 2018): «Роман... мне попросту непонятен, то, что называют его сложностью, я считаю скорей издержками подполья... когда книга явно не может быть напечатана... и пишется для себя, без всякой заботы о читателе. Там есть выдающиеся фрагменты, но действие происходит в дурдоме и выдает в авторе, уставшем от советского гротеска, медленно зреющее помешательство».
Между этими полюсами находится оценка романа, данная А. Эткиндом: «Мы имеем дело с литературой, написанной не для печати и вообще не для чтения: то ли апостольское послание, предназначенное потомком через головы современников, то ли сочинение графомана (...), то ли добросовестная (...) лишенная позы и героизма работа писателя, делающего свое дело в самых неподходящих для этого условиях».
Смущает в этой оценке лишь одно — почему «то ли»? Разве нельзя быть добросовестным графоманом, вне всякого позерства составляющим некое апостольское послание потомкам из сталинской Москвы начала 1930-х? И не пора ли наконец просто взять и определить смысл послания? Не совпадает ли он с завещанием «Бронепоезда...»? И не тут ли скрыта, в конце концов, последняя тайна советской литературы?
Верно замечено: поэзия не обязана быть понятной, чтобы быть понятой. Но в таком случае определяется как-то сама стихия непонятности, ее природа: символистская образность, автоматическое письмо, суггестивная лирика. Так и здесь: в чем суть этого бесконечного роения ивановского речевого улья, его невнятицы и бормотания?
«Бронепоезд...» как будто бы противоположен «У»: там множество редакций с вариантами — тут всего одна. Но в действительности они очень похожи. Повесть переписывалась в поисках некой слитной и непротиворечивой версии событий с убедительными мотивировками, а роман не было смысла перекраивать только потому, что в его единственной редакции исходно было заложено множество версий происходящего: несколько вариантов биографии Черпанова, несколько вариантов его миссии, несколько вариантов местонахождения короны американского императора и пр. Повествование ветвится на каждом шагу, и это ветвление равнозначно бесконечному переписыванию «Бронепоезда...». И разгадка тут очень проста: Иванов в обоих произведениях просто не знает толком, о чем он в точности будет писать. Но если в первом случае он честно пытается это узнать и посильно рационализировать сюжет, то во втором просто отпускает вожжи: все захлестывает речевая стихия.
Звук «у» — это как бы гул самого языка, «бормотание художественного множества». Гудит некая языковая машина, беспрестанно вводящая в обращение все новые и новые неразвитые положения. Эта машина настолько важна для организации действия в повествовании, что А. Белинков, автор знаменитой биографии Ю. Олеши, предлагал даже говорить об особом жанре, созданном Вс. Ивановым. «В романе до такой степени преобладает речевой образ, что это выводит произведение из традиционного жанрового комплекта: психологический, исторический, этнографический, бытовой, социальный роман. Вс. Иванов создал речевой роман».
Отзыв был дан в отношении романа «Кремль», но он в полной мере касается и «У», и, рискнем утверждать, всего творчества писателя. О том, что ивановская проза строится по принципам поэзии, как некая самоорганизующаяся структура, говорили уже в самом начале писательского пути, отмечая следование за звучанием слова, ритмом фразы и пр. Но Белинков имеет в виду все-таки другое — речевой образ. Жаль, что это понятие толком не объясняется ни им самим, ни М. Черняк, впервые открывшей его точку зрения широкому научному сообществу. Есть надежда, что всякий читавший Иванова вне стен средней школы поймет, что имеется в виду.
Речевой образ — это тот же слух, но распространяемый самим писателем среди собственных персонажей. Или так: это версии повествовательной коллизии, проверяемые на пригодность для дальнейшего развития действия усилиями персонажей, имеющихся в наличии на момент вброса слуха. Их реакция на вброс может задать иное направлению сюжета, породить новых его участников, слить старых и пр. По большому счету, в главных произведениях Иванова вообще ничего другого не происходит, кроме речевого испытания задуманных автором коллизий. Этим, кстати, объясняется и отсутствие правок в его рукописях. Нет никаких помарок или зачеркиваний — только новые, сразу набело написанные варианты. Править можно, четко зная, к какой цели идешь. А тут цель всегда была одна: вбросить речевой образ (слух) в среду намеченных персонажей и посмотреть, как будут расходиться круги и на воде и чем это кончится. А если ничем, то сделать новый вброс.
Иванов не просто так служил факиром в провинциальных цирках. Факир стал его автобиографическим, да и профессиональным, альтер эго. Главный фокус состоит в том, чтобы дать полную свободу речевой стихии и погрузить персонажей в состояние остенсии, то есть такое состояние, когда они своими поступками отвечают на инфовбросы хозяина, а порой и его нелепые обмолвки. Как и в живой речи, смысл очень часто существует только в моменте, а не в связи со сказанным ранее или задуманном к произнесению потом. Иванов бормочет, а бормотание, как учил М. Фуко, — это не просто бессмыслица, это некое приближение к границам языка. Кроме того, оно в высшей степени витально, потому что и сама жизнь есть не что иное, как перистальтика возможного: мышья беготня, бабье лепетанье. И если формулировать сквозной пафос ивановского творчества, то это такой заклинательный (речевой) витализм. Высочайшая заслуга писателя состоит в том, что он сумел предъявить свой метод не только в виде бесформенной миметической магмы, но и в виде предельно четких и ясных притч. Среди магматических произведений главное достижение — это действительно «У», среди кристаллических — новеллы из цикла «Тайное тайных» (1927), фантастические рассказы 1950-х гг. и, вне циклов, рассказ «По небу полуночи...» (1940). Там вообще все обнажено до предела.
Некий пожилой актер поднимается на клубную сцену, чтобы прочитать стихотворение М. Лермонтова «Ангел» — его начало и вынесено в название. После первой же строфы чтец забывает, что дальше, и в порядке оправдания переходит к воспоминаниям. Но это не воспоминания современников о поэте, как можно было бы предположить, исходя из контекста вечера, — а подробный отчет о других похожих случаях, когда герой забывал все того же лермонтовского «Ангела». Сначала он его забыл на экзамене в школе; потом — когда делал предложение возлюбленной, надеясь очаровать ее своим чтением; наконец, разгоняя таким образом (!) с вагонной площадки бандитов, атаковавших поезд. Несложно заметить, что от случая к случаю провал (забыл стихи!) оборачивается все более и более грандиозной победой: экзамен сдан, предложение принято, бандиты отступили. Победой становится и сама рамочная ситуация, заданная в рассказе: зрители хлопают чтецу не за его болтовню, а именно за удивительное по силе и красоте чтение «Ангела». Так получилось и с самим Ивановым: от вещи к вещи терпя фиаско, он в итоге победил. Еще коллеги-«серапионы» смеялись над его неспособностью убедительно разработать и связать вместе два элементарных мотива. А он, недоучка и факир, сумел в итоге нечто гораздо большее — дать образ самой речевой стихии, причем увидел ее как изнутри, так и со стороны.
На языке гульгульмина
Среди авторефлективных притч-кристаллов у Иванова закономерно встречаются такие, которые существовали уже буквально только в стихии речи: он их рассказывал, но так и не записал. Это за него сделали другие. В своих воспоминаниях писатель А. Крон приводит «Любимую сказочку Пикассо». Странно, что мемуарист не разоблачает очередного ивановского фокуса. Никакая это не сказочка Пикассо, а просто беллетризованный анекдот, но не суть. Важнее — о чем он. Это история человека, который делал гульгульмин (слышите, как снова звучит это продувное «ууу»?). Пираты захватили купеческий корабль с пассажирами. Стали изучать пленников: кто может заплатить за себя выкуп, кто умеет делать что-то полезное и т. п. Был среди пленников человек, который «лицом... походил на философа, а руками на каменотеса, и даже опытный глаз атамана не мог определить, что это за птица». Эта неопределенность очень важна: Иванов тоже всегда умел ускользать от определений и ярлыков, даже внешне. Тот же Крон признается: «... Все мои ... впечатления от В. В. отличались крайней противоречивостью, он казался старше своих лет, а при этом проглядывало в нем что-то совсем младенческое, было в его лице нечто жесткое — и кроткое, чопорное — и простодушное, трезвое — и мечтательное; с одного боку — половецкий хан, с другого — скандинавский пастор».
Вот и пират не мог разобраться, что за птица. Пленник сказал, что умеет делать гульгульмин. «Из-под его рук выходило множество [так! — П. Р.] гладких дощечек с просверленными в них круглыми дырочками; наблюдавшим за работой корсарам казалось, что все дощечки совершенно одинаковые, но пленник держался другого мнения, и, когда расстояние между дырочками получалось слишком большим или слишком малым, он без всякой жалости выбрасывал дощечку за борт и начинал сверлить снова». Трудно здесь не заметить рефлексии по поводу собственной манеры Иванова писать новые варианты вместо внесения правок.
Наконец, пришло время продемонстрировать, как работает гульгульмин. «... Все увидели удлиненной формы снаряд, состоящий из дощечек со множеством [снова множество! — П. Р.] дырочек, в нижнюю... часть снаряда был залит для тяжести свинец».
Гульгульмин — а это был он — бросили в море. «Снаряд тут же затонул, но, утопая, он издал необыкновенной красоты музыкальное бульканье, похожее на слово „гульгульмин”».
Вот и все. На ту же тему существует много анекдотов. Про «бюльдину» или там «бульбулятор» (везде «ууу»). Но такой развернутой и яркой интерпретации темы, как в «Любимой сказочке Пикассо», больше нет нигде. Пираты не только пощадили пленника, не только разрешили делать ему гульгульмин и дальше. Они поверили, что гульгульмин действительно зачем-то нужен людям.
Думается, что этот гульгульмин и есть последняя тайна советской литературы. Множество — просто как образ людской массы — появилось в ней сразу, почти одновременно с «Бронепоездом...»: в совершенно уже забытом «Падении Даира» А. Н. Малышкина сражаются именно множества и бывшие. Но адекватный речевой образ этого множества, пластически и метафизически, кажется, смог дать все-таки только Вс. Иванов.
Сегодня гульгульмин — это не снаряд, бросаемый неким художником в воду и издающий музыкальное бульканье, радующее слух. Это просто язык большинства. Все соцесети совершенно точно разговаривают на гульгульмине. И чтобы понять, как тут можно пробиться к ясному и обязательному хотя бы для самого говорящего смыслу, неплохо бы вернуть в строй Иванова-факира. Он покажет, как это делается.