Живет в глубинке писатель...
– Алексей Александрович, расскажите о своем жизненном пути.
– Вырос я в небольшой деревушке Черемисы Павинского района Костромской области. Откуда появилось такое название, кто и когда стал ее крестным отцом, выяснить так и не удалось до сих пор. Но то, что основали ее представители черемис – есть такая народность в Поволжье, – это точно, тут и к бабке ходить не надо. Поселились здесь они, видимо, давно, и со временем и сами основатели деревни перевелись. Но обычаи, присущие только черемисским людям, жили в деревне до конца дней. Если, например, картошку садить, то выходили все от мала до велика и садили по очереди. Если гулять, то гуляли тоже на широкую ногу, тоже по очереди. По ночам украдкой возили из логов сено, густо смазывая солидолом колеса, чтобы не скрипели, и все при этом таились, никто никого начальству совхозному не выдавал. Дружная была деревня…
Но все это в прошлом. От Черемис осталась только память. Это о ней я писал, посещая временами исчезнувшую деревню, зарастающие лесом поля:
Деревня Черемисы -
Боль детства моего.
Четыре бани низких
И пять жилых домов.
Ее давно постигло горе -
Там нет домов, затих калиток скрип.
И только дуб на косогоре,
Как будто памятник стоит.
От деревни сегодня следов почти не осталось. Но она не сдается, привлекает и привлекает к себе людей. В молодых березняках, растущих около бывших Черемис на бывших хлебных полях, грибов – подберезовиков, подосиновиков и белых – хоть косой коси да в корзины складывай. Остается сожалеть только, что с косой в той лесной чаще, в которую ныне превратились поля черемисские, ни в какую не пройти. Пешком бы с корзиной пробраться, и то не везде получается. Но в прошлом году я снова побывал на месте своего родительского дома. Все вокруг начинает походить на лес. И надо же, дом, похоже, отблагодарил меня, что не забываю его, наведываюсь: с десяток груздей подле былой калитки смотрели на меня, словно сами предлагали – возьми нас!
Здесь я окончил Жуйковскую начальную школу – в соседней деревушке была, потом Леденгскую среднюю. Затем поступал в Уральский политехнический институт – не повезло. Год жил и работал на Урале – пробовал примерить на себе жизнь городскую, но, видать, ростом или чем-то иным не вышел, а потому не прижился в Красноуральске. Поэтому после службы в армии вернулся в родные, но уже обезлюдевшие Черемисы. Там тогда оставалась одна моя мать.
Директор нашего совхоза мужик умный был, обеими руками за молодые кадры держался. Специальность моя, полученная еще на Урале, была ходовой – электромонтер среднего разряда, но оказалась в совхозе не нужной. Местная средняя школа несколько лет подряд занималась подготовкой таких специалистов, электриков в районе уже было как собак недорезанных. Взяли… помощником ветеринара. Ветеринар – девчушка, только что техникум окончила. И она, и директор меня, олуха, в животноводстве уговаривали поработать – ничего, мол, освоишься, поднатаскаешься, а там видно будет. Но одновременно с этим отправили в Шарью в техникум поступать на механика. У меня, видать, за годы службы не все из головы выветрилось, поступил с первого захода, даже кому-то подсказывал, помнится, на экзаменах. Но судьба распорядилась иначе: я ни ветеринаром, ни механиком так и не стал. Даже в помощниках скотного врача всего три дня проходил. Но за это время успел написать несколько басен и отправил их в Павинскую районную газету «Северный луч». И через несколько дней моя жизнь в корне изменилась. Басни опубликовали, а меня пригласили на работу в редакцию, в которой я проработал более сорока лет…
– Каким образом вы пришли к творчеству, когда начали писать?
– Первые пробы поэтического пера начались классе в пятом-шестом. Какие они были, сказать сейчас трудно. Они не сохранились. Несколько лет я писал втихаря – никому не показывал и слова о своем увлечении не молвил. Потом, классе в восьмом, осмелился, показал учительнице литературы. Она, не будь плоха, сразу после прочтения похвалила и посоветовала с этими стихами выступить на районной сцене – там какой-то школьный слет намечался. Накануне я несколько дней подряд свои же стихи зубрил каждый раз до полуночи. Но приехали в райцентр, поднялся я на сцену Дома культуры и прочел всего лишь первую строчку, остальное куда-то вылетело из головы, будто и не учил целыми днями.
И этот случай не прошел бесследно. С тех пор на сцену, какой бы она ни была, не выходил ни разу. Выступать в библиотечных залах, в классных кабинетах проще простого, рыбой в воде себя чувствую, а со сцены робею, да еще в зале людей тьма-тьмущая.
Потом я свои стихи стал Лене Медведевой показывать, она тогда, хоть и младше меня была, тоже пробовала писать. Ныне она член Союза писателей, живет в Перми. Мы тогда часами читали друг другу свои творения. Она обычно расхваливала меня, и по окончании школы я отважился послать свои стихи в один из толстых журналов. Ответ пришел пространный: там внимание на мои стихи обратили, но порекомендовали подучиться и список литературы, которую я должен прочитать, предложили. Я жил на Урале, работники местной библиотеки оказались людьми добросовестными. Они все книги из этого списка мне нашли, что у себя не оказалось – в других городских библиотеках пошукали. В сумку книги едва все вошли, домой с таким грузом насилу приволокся. Но прочел все залпом и обратно унес. Понял: лучше писать вряд ли буду. И с тех пор стихи для меня не самое главное. Во всяком случае пишу, но для публикации в солидные издания не предлагаю.
Но стихи сыграли немалую роль в моей жизни. Из-за стихов, а точнее из-за басен в стихах, я стал газетчиком, журналистом, окончил потом факультет журналистики Московского полиграфического института (ныне университет печати). Уже работая в газете, перешел на прозу.
– Как сложилась ваша литературная судьба, что удалось написать и опубликовать?
– Литературная судьба? Что-то в ней удалось, а что-то и… Остается пожать плечами. Хотелось бы иначе.
Первая серьезная публикация – в иркутском альманахе «Первоцвет» – появилась в 1995 году. На Всероссийском совещании писателей, делегатом которого был и я и где меня приняли в Союз писателей России, представлял свои повести и рассказы. Встретился там с иркутским писателем-фантастом Александром Лаптевым. Познакомились, обменялись рукописями знакомства ради. Он попросил у меня в память о встрече повесть «Гурт». Мы потом разъехались по домам, а некоторое время спустя мне, как снег на голову, приходит альманах «Первоцвет», в котором опубликована моя первая повесть.
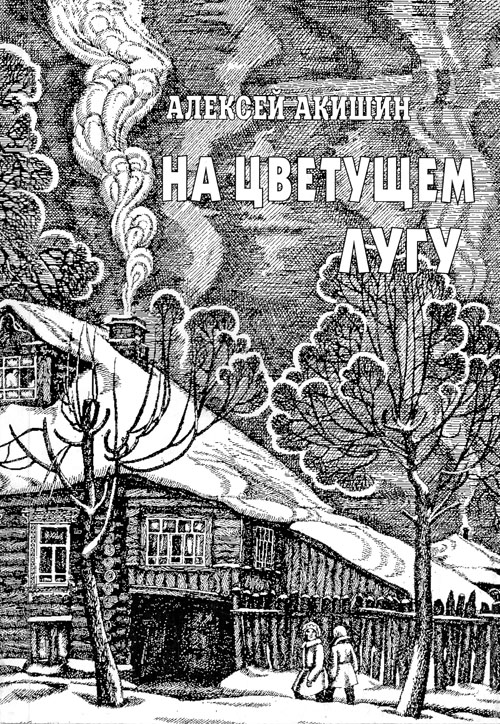
В 1999 году в Костроме вышла из печати еще одна повесть – «На цветущем лугу». Первоначальное ее название несколько иное – «Пестрая корова на цветущем лугу», но переменили малость. С этой повестью история такая: она была принята к изданию лет за пятнадцать до выхода в свет. Ее планировали издать в Ярославле. Я даже ездил туда, встречался с редактором, но потом долгое время не получалось с изданием. В конце концов в Костроме напечатали…
В 2010 году журнал «Север» опубликовал повесть «Беседка под ветлами». В последние годы активно сотрудничаю с газетами-толстушками Томской области. Там опубликовано уже около ста охотничьих и рыбацких рассказов. Печатался несколько лет подряд в столичном журнале «Охотник».
Поэтому можно считать, что удалось многое, но не все. В ходе совещаний писателей многие подсказывали: в писательстве откладывать на потом ничего нельзя. Я грешил, не вникал совету старших, считал, что можно отложить что-то и на потом, мол, времени свободного будет вагон и маленькая тележка… Увы, такого не бывает.
– Считаете ли вы себя представителем деревенской прозы?
– Я родился и живу в деревне, пишу только о деревне и в основном прозу. Значит, и считаюсь деревенским прозаиком. И вообще, еще на Всероссийском совещании писателей мне подсказывали, советовали, судя по представленным рукописям, обращать внимание на крупноформатную деревенскую прозу. Она мне лучше удается. Хотя у меня есть несколько сотен коротких рассказов, которые в общем-то неплохо воспринимаются читателями. Словом, какой бы формы деревенская проза ни была, она всегда мною ценима, всегда дорога.
– Алексей Акишин известен как прозаик, но в вашем творческом активе есть и стихи. Что они значат для вас?
– Я уже говорил, что со стихов начинал, стихи сделали для меня свое. Сейчас же я пишу их не для публикации в газетах или журналах, а большей частью для устного общения с читателями. Такие стихи очень короткие, емкие и обязательно с юмором. Вот как я написал еще в годы студенчества о незнакомой москвичке с густо накрашенными бровями, ресницами и губами. Замечу, что в те годы краска легко смывалась водой:
При солнце ты со мною шла,
Ты словно золушка была!
Но хлынул дождик проливной
Ты стала… Бабою Ягой!
Вот с такими стихами я обычно встречаюсь с читателями в читальных залах или просто в кругу знакомых и друзей. Бывают и более крупные стихи, но в них и доля сатиры и юмора возрастает…
Есть у меня в активе большой выбор детских стихов. В годы студенчества я жил в одной комнате с детским поэтом из Новосибирска Александром Бересневым. Он уже тогда был автором нескольких детских книжек. Вечерами он читал свои новинки, и даже мне предлагал пробу пера снять. Я написал с пяток детских стихов, он прочел, поморщился, но все же обнадеживающе сказал, что на первый раз сойдет.
Институт был позади. Я и позабыл, что себя в детских поэтах пробовал, но случай заставил вспомнить. Во время очередного литературного совещания мне пришлось проводить встречу со школьниками-первоклашками. Я начал им читать что-то из своих последних рассказов. Читаю, а они – кто в окно глазенки пялит, кто сидит и зевает… Скучно ребятам! Вот тут мне и пришла идея: написать для подобных встреч детские стихи. С тех пор я стал постоянным гостем у детей. Зевающих и скучающих уже не было! Но когда я пытался схалтурить, прочесть что-то из звучавшего в прошлый раз, они меня поправляли – тот стишок уже наизусть знали и могли сами прочесть. А потому перед каждой встречей приходилось пополнять свой запас детских стихов. Так и набралось их более сотни…
– Известно, что писатель не может существовать сам по себе, на него оказывают прямое или косвенное влияние те, кого он читает, с кем общается. У кого вы учились? С кем из известных мастеров слова сводила судьба?
– Еще в юности я несколько раз перечитывал Михаила Зощенко, Ильфа и Петрова… Возможно, их влияние сказалось на моей прозе. Каждый мой рассказ с долей юмора, доброты. Особенно характерны в этом плане деревенские байки – их около четырехсот, некоторые из них уже появляются на страницах газет по нескольку раз…
С кем я общаюсь? Здесь, в Павине, в основном с будущими героями своих будущих рассказов и повестей. Но в прошлом судьба сводила с прекрасными преподавателями полиграфического института – Ниной Васильевной Валгиной, Ириной Борисовной Голуб… Они научили тонко чувствовать слово, уметь пользоваться им. Потом были плодотворные встречи в издательстве «Наш современник», где я проходил преддипломную практику, в журнале «Крестьянка», где тоже пришлось поработать, понабивать руку. Знаком был с Глебом Горышиным из Санкт-Петербурга, Арсением Ларионовым из Москвы, Василием Мишеневым из Вологды, бывал в гостях у прозаиков и поэтов города Семенова Нижегородской области…
Ну и, конечно, много различных встреч и знакомств было в дни Всероссийского совещания писателей.
– Каково сейчас живется в русской глубинке и каким вы видите ее будущее?
– Главное – не где жить – в глубинке или поодаль от нее, поближе к городу. Главное – не унывать. И, похоже, у наших людей это получается сейчас. А на будущее загадывать не буду – время покажет.
– К сожалению, многие ваши произведения увидели свет только в периодике, а некоторые вовсе не опубликованы. Не теряете надежду издать книгу?
– Конечно, на книгу особо не рассчитываю. Но буду надеяться на публикации в журналах и газетах. Главное, еще писать надо, закончить то начатое, что когда-то оставлялось на потом. А у меня еще целый пласт деревенской жизни не пахан – восстановление сельского хозяйства в 60–70-х годах. Тема весьма интересная. Быльем бы не заросла…
– Алексей Александрович, спасибо за интересный разговор. Здоровья вам и творческого долголетия!
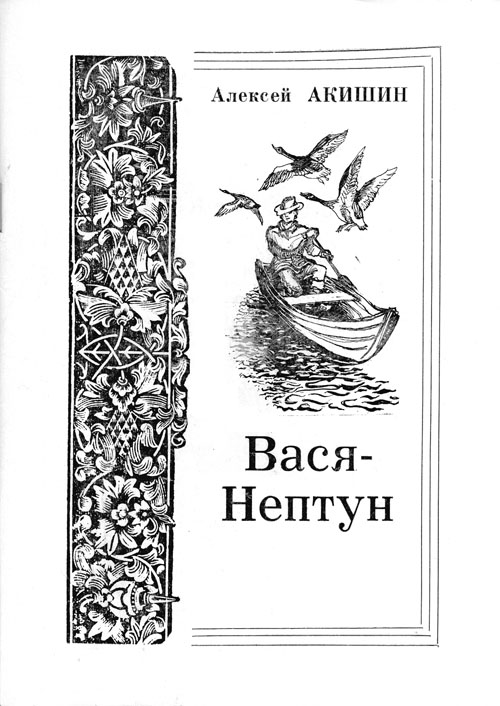
Алексей АКИШИН
Пчелы и ревматизм
У Николая Седого спину прихватило. Он и так и сяк пробовал ее лечить, чем только ни натирал, сколько ни прогревал – не отпускает. Согнулся в три погибели и по деревне шарашится – прямиком к Фролу Фомичу. У него парочка ульев под окном стояла.
Приковылял и сразу быка за рога берет, выкладывает все о своей хвори навязавшейся. Вот, мол, лечиться к тебе пришел – надо, чтобы пчелы спину нажалили. Слыхал, дескать, яд пчелиный помогает… Выручай, Фомич!
А тот – руками разводит, некогда, мол, мне этим делом заниматься! Ему еще утром полную телегу тракторную опилок свалили под окошки – он ходил вокруг них и лопатою кучу расползшуюся по сторонам кучил, чтоб потом, мало ли дождь соберется, укрыть можно было в два счета. Фомич был занят, да и Седого он как-то брезговал, недолюбливал – мужик-то уж больно подковыристый, прижимистый такой, что у него самого снега зимой ни за какие коврижки не выпросишь, и к тому же некомпанейский, за его порогом никто в жизни не бывал – грудью выпячивался, на пути вставал, а в дом не пускал. Но Фомич мужик сердобольный – пожалел все-таки хворого, деловито предложил:
– Загибай рубаху догола да к улью садись! Они сейчас как раз туда-сюда мотаются. Тут же тебе и помощники никакие не нужны! Пчелы сами найдут, здоровье тебе поправят…
Николай Седой одежонку скинул, по пояс нагишом остался и в палисадник протопал, присел на корточки и спину свою пчелам напоказ выставил: кусайте, мол, смелее! Но то ли у Фомича были пчелы такие обходительные, то ли погода и медосбор в этот день хорошими оказались, они горохом сыпались на спину и по своим делам улетали – не жалили. Седой по-всякому спиной передергивал, к летку вплотную подвинулся – не кусают, одна только в волосах захомуталась, да и то пожужжала-пожужжала и выпуталась, на волю улетела – цветы в лугах проверять.
Седому надоело выжидать, когда на него пчелы осерчают и начнут спину кусать, пошел у хозяина совета просить – может, потревожить их малость, дубиной по улью трахнуть! Тогда, мол, наверняка получится, только бы не переборщить – лишку на себя не натравить. А Федор Фомич и забыл про гостя своего, скучил опилки и сидит дома на диване, как барин, и чай швыркает с медом свежим. Телевизор у него под носом – на всю катушку наяривает, на экране мужики баянам меха дерут да частушки на всю ивановскую поют, глоток своих не жалея. Седой постучался раз-другой пруточком в окошко, в избу не стал заходить, стыд да совесть не позволяли, подсказывали – нечего, мол, по чужим избам расхаживать, коль в свою никому шагу не даешь делать, взашей еще вытурят. Постоял он в раздумье, и мысль его осенила: а чего Фомича от дел его хозяйских отвлекать, и без него смогу пчел раззадорить, в состояние врачевателей привести. Нашел он за ульями не то черенок какой-то бросовый, не то кол-подпорку старый от огорода и осторожно, словно клюкой в печи горящие уголья ворошит, по крышке крайнего пчелиного домика дубиной этой елозит. Выгибается он паралитиком, все норовит спину хворую пчелам подставить, а они на него внимания даже никакого, не то чтобы в больное место его кусать. Выползают из летка – и вверх, будто самолеты с корабельной палубы в небо взмывают, и поминай, как звали – исчезают в небесной синеве.
Он поморщился, скособенился, надо же, и пчелы на меня тоже косо смотрят, размахнулся и со всей силы трахнул по улью. Крышка домика пчелиного гулко бухнула, подскочила – в образовавшиеся щели, будто тесто из квашонки, пчелы полезли и сразу же набросились на своего обидчика. Они не крутились над ним, угрожающе жужжа, а жалили сразу, но не в спину, а в лицо, в шею, впивались в волосы. Николай и дрын в сторону бросил, наутек пустился, но пчелы так плотно на него насели, что не отстают, жалят и жалят, ходу никуда не дают. На бегу он не заметил второго улья, нашибся на него, с домика крышка с грохотом свалилась и сам он набекрень съехал, с колышков-подставок слетел. Пчел над Седым вьется – свету белого не видно и кусать уже стали без разбору – спину хворую тоже не брезгуют.
Выскочил он за калитку – все тело огнем горит, десятками шильев его будто одновременно тычут. Один глаз уже не то что дороги, куда ему бежать, не видит, и второй заплывает – только в щелочку узенькую просвет. Под ногами его опилки, будто подушка пуховая, почувствовались. Он упал навзничь на кучу и давай в нее собакою зарываться – роет себе нору, только опилки по сторонам летят, и в нее барсуком забирается…
* * *
У Федора Фомича телевизор – громкость до отказа прибавлена, мужики там комаринскую выкаблучивают, бабы молодые да красивые подле них хороводятся: глаз не оторвать, будто они не на экране кренделя выписывают, а в доме у хозяина. Он даже сам не утерпел – сидит на диване и в такт гармошке ногами приплясывает. Хотел даже сам свою тальянку в руки взять и планки поперебирать, да доставать не захотел, хандра что-то напала, да и смысла особого не было доставать ее с шифоньера: еще минут десять, и передаче этой веселой каюк придет, что-то другое на экране появится.
В избе шумно, весело, но вдруг он встрепенулся – не до плясок и не до песен Федору Фомичу стало. Краешком глаза заметил: пчелы под окном подозрительно расхорохорились! По всему палисаднику тучей носятся, через которую домиков пчелиных и не видать даже, и летают так встревоженно и беспокойно, будто на лугах вместо нектара на белену натыкались. Даже в стекло оконное горохом бьются или, может, стучат – хозяина на помощь призывают. Он шамшуру – на голову, сам как пчела на улицу вылетел и про телевизор мигом забыл. «Чего ж они взбеленились? Надо мед носить, а они пляски половецкие устроили… Неужто роиться удумали и про медосбор забыли?..»
В суматохе Федор Фомич и не вспомнил про Седого. Забегает в палисадник, один улей и с подставок съехал – вот-вот наземь грохнется, у второго – крышка набекрень. Пчелы разъяренные над ними облаком сизым нависли, снуют туда-сюда, какой им медосбор, когда жилища их потревожены. Хозяин ульи поправил, установил их на привычные места и обратно из палисадника топает: сами, мол, теперь разберутся и успокоятся, в рабочую форму войдут.
Идет он и видит сквозь сетку защитную: рубаха Николая на скамейке лежит и еще какая-то одежонка нехитрая, а в куче опилок сапоги его сорок последнего размера резиновые темнеются. Тут его и осенила догадка: да это же Николай пчел от ума отставил и удрал от греха подальше, одежду и сапоги-грохоталы свои позабыл. Видать, дали ему мятку, коли босый и полунагой обратно утек.
Оставленная одежда особого внимания не привлекла, а вот на сапоги Фомич глаз бросил. «Дай-ка, думает, я их припрячу подальше. Авось и перестанет в них в такую жару ходить-ботать, купит или найдет где-то обувку полегче и поудобнее…»
И только он дотронулся до сапог, куча опилок ожила, заколыхалась, будто вулкан перед извержением, а потом из нее и сам Николай Седой выскочил и по дороге стремглав босым помчался. Фомич только его и видел, промелькнул – и нету. В руках сапоги только остались...
Он занес их в коридор, сидит дома и в окно на пчел поглядывает. Сизая туча рассеялась, значит, они в норму приходят, успокаиваются и за работу снова берутся. Фомич и не заметил, как в избу жена Николая Седого вошла и с порога начала:
– За одеждой послал, говорит, забыл где-то у твоего палисадника…
– Ну, и как он, подлечился? – съехидничал Фомич.
– Ты не поверишь, ходил ведь горбатился – стонал да охал, а домой сейчас бегом прибежал, и спина прямехонькая, как по линеечке. Одно плохо, на улицу захотел – под руки вести пришлось. Морда, как мячик стала, толстая, красная, и глаза заплыли, не видит ничего… Но это пройдет! Главное, спина теперь успокоилась, даже, говорит, знать о себе не дает вовсе. А я его еще дня три назад к тебе посылала. Не зря оказывается…
Про сапоги она не спросила, а Фомич не напомнил – так они у него и остались. А через пару дней Николай в магазине появился. Идет, как свечечка, его не узнают даже. И лицом стал полнее, и не горбится, и, самое главное, на ногах обнова – туфли легкие, новые, хотя и затхлостью от них за версту разит – лежали где-то годами, может. Про сапоги свои всесезонные сказал так: тяжелы стали, в них от пчел фомичевских убегать трудно, а то они у него, знаете, какие злые, кусачие…