Квадратный ад Малевича
6 февраля 2022 ● "Горький"
О «Вершинах двадцатого века» Александра Якимовича.
«Англичанин в Москве» (фрагмент). Казимир Малевич, 1914
В издательстве «БуксМАрт» вышло продолжение разговоров Александра Якимовича об изобразительном искусстве и культуре сравнительно недавнего прошлого. В первой книге цикла говорилось об искусстве, непосредственно предваряющем двадцатый век, вторая книга посвящена некоторым аспектам авангарда эпохи до 1930-х годов. О ней для читателей «Горького» сегодня рассказывает Андрей Гореликов.
Александр Якимович. Вершины двадцатого века. Беседы о проблемах искусства и культуры. Книга 2. М.: БуксМАрт, 2021.

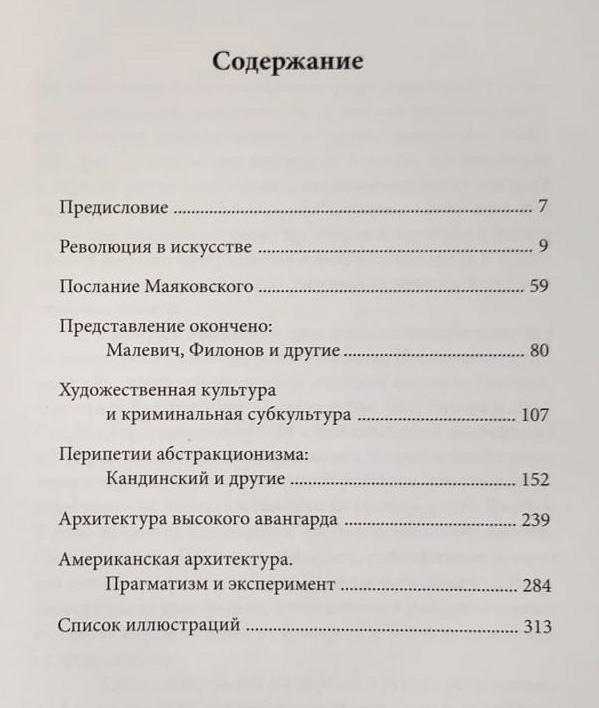
Содержание
Якимович относится к авторам, которые стремятся хорошим и ясным языком высказаться просто о сложном. Настолько, что сперва эта сложность не слишком заметна. Подзаголовок книги — «Беседы о проблемах...». Беседы, согласно настроению нашего времени, отнюдь не неторопливые, а, напротив, спешные, горячие, порой сбивчивые. Читателю, который не сразу разобрался, в чем дело, в начале книги может показаться, что речь идет о некой лекции-ликбезе. В самом деле, мы, скорее всего, уже слышали о кризисе фигуративного искусства на рубеже XIX-XX веков, о том, как за постимпрессионистами пришли модернизм и авангард, в живописи закрепилась абстракция, потом случился «Черный квадрат» — и искусство «приехало».
О том, что все не так просто, однако, говорит уже фабула книги. Беседы Якимовича начинаются с общего упоминания художественной революции, затем идет глава (!) о Маяковском, глава о Малевиче, Филонове и прочих наряду с Маяковским завершителях искусства прошлого; текст о явном фаворите автора Кандинском (а заодно его соратниках и современниках в Европе), следом — обращение к архитектурному авангарду и... к архитектуре Америки. Человека, который и впрямь искал бы ликбез, такое содержание только запутало бы, это ход мысли автора с концепцией, которая, очень может быть, останется вещью в себе.
Вот куда клонит Якимович: он хочет дать искусству этическую оценку. В том смысле, в каком этику понимали основатели западной философии, от Платона до Спинозы. Некие незыблемые геометрические законы, правила абстрактной человеческой жизни. Человек здесь мера: в самом начале Якимович проводит водораздел между антропологически дружелюбным и антропологически недружелюбным искусством. Например, Кандинский, очевидно, первое, а Малевич, очевидно, второе.
Неочевидно? Якимович считает иначе. Речь как-никак об изобразительном искусстве. Оно говорит и показывает открыто, надо только правильно смотреть. В книге много говорится об отрицании идеологического, постоянно упоминаются «непредумышленные смыслы» и то, как обстоят дела «на самом деле».
Художник, объясняет автор на примере Кандинского, страдает от «онтологического провала» — то есть от прорехи бытия. В кризисную эпоху, когда уничтожается прошлый привычный мир, дискредитируют себя вера и идеология, художник, если он «дружелюбен» и позитивен, пытается залатать этот провал своими творениями либо, в противоположном случае, продолжает вглядываться в бездну, извлекая смыслы своего сумрачного искусства из хаоса.
Поскольку визуальное искусство лишено «слов», ему было легче других жанров обратиться к чистому, «онтологическому» смыслу, проделать редукцию и деконструкцию, которая вырвет нас из тисков отживших парадигм и образов. Дать нам возможность увидеть мир как он есть, а не фигуративные тени на стенах пещеры. То есть живопись (в частности) — это философия. А что же она еще? Элемент декора?
«Идеологический заряд превращается в онтологическое послание, в образ полнокровного и яркого бытия».
Якимович много пишет о философии, окружавшей художников упомянутой эпохи. Ницше и Шестов, порицаемая, но неизбежная Блаватская, не упомянутый, но явно подразумеваемый Хайдеггер. Все эти мыслители, вбив клин в зазоры тогдашних идеологических схем, сорвав в том числе флер с «искусства», шокировали общество — и вели одиночек, как они думали, в сторону обнаженной недостижимой истины. Чем больше написано слов, тем меньше нужны слова.
С одной стороны, эта философия как бы внеположена собственно «творцу» произведения, его замыслу. Получится то, что должно получиться, никак иначе.
«Искусство делает даже такое, чего художник сам и не собирался делать. В зрительном и смысловом континууме непредвиденные смыслы проявляются как бы сами по себе. <...> Что именно он хотел сказать нам своими беспредметными картинами и что у него получилось сказать? Хотеть сказать — это ведь не то же самое, что сказать на самом деле».
В то же время итоговое высказывание тесно связано с личностью художника. Поэтому в тексте Якимовича столько характерных (хотя явно не исчерпывающих и даже пристрастных) биографических подробностей тех или иных героев. Отсюда глава про Маяковского как фигуру, репрезентативную для русской культуры. Якимович периодически, говоря о живописи и архитектуре, совершает экскурсы в кинематограф и литературу. Прежде всего поэзию — как искусство образное и потому наглядное. Например, своеобразной антитезой Маяковского предстает сумрачный по смыслу, но весьма философичный Рильке.
«Он пишет свой „Часослов” и создает свое собственное поэтическое богословие... Позднее Рильке вполне закономерно переходит к неизобразительным, „нефигуративным” описаниям Божественного присутствия».
Маяковский же для Якимовича антигерой, певец онтологического провала. К революции (даже художественной) рассказчик относится с недоверием, как и к реакции, восклицая «чума на оба ваших дома». Революция Октябрьская и есть тот провал в ад квадрата Малевича, воспетый Маяковским. Без особых церемоний Якимович ассоциирует черный передел Маяковского и русских футуристов (делая исключения для «позитивного» неофутуриста Хлебникова) с открытой уголовщиной. Поэт улицы, «глумила» Владимир Владимирович онтологически близок уголовнику Сталину, и философия раннего советского авангарда оказывается отнюдь не противна тоталитарному государству 1930–1940-х (как это иногда хотят представить современные левые).
В этом что-то есть: итальянские футуристы, о чем упоминает Якимович, имели все же позитивное начало как прямые наследники карнавальной культуры и хотя бы как своего рода патриоты. Французскими «проклятыми» или уголовником Жаном Жене мы можем восхищаться, хоть и отстраненно. Интонации Маяковского с его «желающие получить в морду, становитесь в очередь» слишком узнаваемы в России, чтобы не обратить на них внимания. Короче говоря, русский авангард, за исключением некоторых вечных счастливчиков вроде Ларионова или Гончаровой, обратился на службу зла.
Немецкий авангард, с которым был связан Кандинский, не воспел разрушительной «недружелюбной» тенденции, но был уничтожен, раздавлен тьмой. Исключение, по мысли Якимовича, составил... Баухаус — прорыв в дизайне, попытка поселить человека в светлый и внятный мир. (Другой пример — уважаемый Якимовичем Рудольф Штайнер, создатель духовно-рационалистского храма в Альпах.) Пускай это вроде бы прикладное искусство, но все же служащее облагораживанию человека. Здесь можно отослать к суждениям самого Кандинского из «О духовном в искусстве», где он пишет о «духовном хлебе», пайке, положенной самому непросвещенному человеку даже в самом простом виде.
Становится яснее переход от дизайна к архитектуре. Архитектура — древнейшее искусство, не умеющее лгать, но насквозь идеологичное. От запрещенного нацистами Баухауса и полутупикового советского авангарда Якимович переходит к Франции — прежде всего новациям Ле Корбюзье — и Америке. Автор откровенно восхищается трудолюбивым прагматизмом США, подобно пожилому Гёте, воспевшему новый, свежий американский мир без руин мрачных замков и всяческих загораживающих свет истины традиций. Ориентация на природу вообще важное для Якимовича свидетельство «дружелюбия» и подлинности искусства. Которую он усматривает и в проектах американских особняков, и в казармах Корбюзье, и в американских небоскребах. Последние автор вполне любовно уподобляет пчелиным сотам: природа, созидание...
«Там пишут такое, отчего европейская мораль становится на дыбы. Там строят так, что нам приходится перенастраивать глаза, чтобы оценить новую американскую архитектуру... Новаторы-почвенники рождаются американской почвой так же естественно, как радикальные бунтари больших городов».
Уже поверив мысли о философской миссии искусства, о его дружелюбной помощи человеку, мы начинаем чесать в затылке. Поскольку книга обрывается на этой главе, получается, после революций и ужасов столетней давности унификация и уют — единственная пайка, которая нам положена. Согласимся, что наследие Ле Корбюзье довольно далеко от сказочной Москвы, воображенной Кандинским.
«Он смолоду мечтал о том, как напишет Москву в час заходящего солнца, этот „лучший час московского дня”: „Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламеннокрасные дома, церкви — всякая из них как отдельная песнь, — бешено зеленая трава, низко гудящие деревья, или на тысячу ладов поющий снег, или allegretto голых веток и сучьев, красное, жесткое, непоколебимое, молчаливое кольцо кремлевской стены, а над нею, все превышая собою, подобная торжественному крику забывшего весь мир аллилуйя, белая, длинная, стройно-серьезная черта Ивана Великого”... Это описание несуществующей живописи вызывает такое ощущение, что перед нами ландшафт другой реальности... Прекрасная Москва, притом не столько реальная, сколько явленная в видении и озарении».
Если за неимением недостижимого озарения нам приходится довольствоваться и даже любить «американский прагматизм», может быть, в следующей части цикла спасительной субстанцией абсолюта предстанет пластмасса, принимающая любую форму, всем доступная, вся во всем.
Гадать, впрочем, бессмысленно. Обобщения Якимовича так широки, что через Маяковского и американский архитектурный авангард можно перепрыгнуть к любой другой вершине. Он сам раньше писал об опасности мифологизации искусства (например, представления о большом художнике как ниспровергателе тенденций) и, стремясь уйти от идеологических схем, пришел к умозрительной аксиоматике, отдаленно напоминающей учение Августина о двух градах. Если угодно, Якимович отчасти подобен Делёзу в его рассуждениях о кино, как бы освобожденных от социального контекста, — например, замечание автора о перекодировке немецким экспрессионизмом предшествующего авангарда напоминает лучшие моменты делёзовских штудий, где говорится об ужасной «неорганической жизни материи» в геометрическом аду Вине, Ланга и Мурнау.
Плюс здесь в том, что от книги остается ощущение приятной беседы с умным и понимающим человеком, а ракурс (если не оригинальный, то и не мейнстримный) позволяет посмотреть на известное искусство свежим взглядом, словно протерли тусклое стекло. Минус — в волении равнодушного читателя, который всегда может сказать: «А позвольте вам не поверить», закрыть книгу и уйти обратно в сумрачный лес смыслов.
В издательстве «БуксМАрт» вышло продолжение разговоров Александра Якимовича об изобразительном искусстве и культуре сравнительно недавнего прошлого. В первой книге цикла говорилось об искусстве, непосредственно предваряющем двадцатый век, вторая книга посвящена некоторым аспектам авангарда эпохи до 1930-х годов. О ней для читателей «Горького» сегодня рассказывает Андрей Гореликов.
Александр Якимович. Вершины двадцатого века. Беседы о проблемах искусства и культуры. Книга 2. М.: БуксМАрт, 2021.

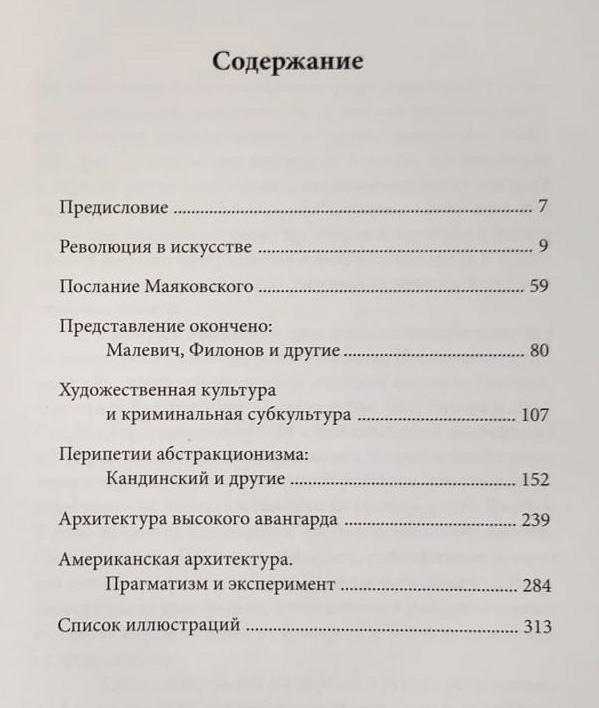
Содержание
Якимович относится к авторам, которые стремятся хорошим и ясным языком высказаться просто о сложном. Настолько, что сперва эта сложность не слишком заметна. Подзаголовок книги — «Беседы о проблемах...». Беседы, согласно настроению нашего времени, отнюдь не неторопливые, а, напротив, спешные, горячие, порой сбивчивые. Читателю, который не сразу разобрался, в чем дело, в начале книги может показаться, что речь идет о некой лекции-ликбезе. В самом деле, мы, скорее всего, уже слышали о кризисе фигуративного искусства на рубеже XIX-XX веков, о том, как за постимпрессионистами пришли модернизм и авангард, в живописи закрепилась абстракция, потом случился «Черный квадрат» — и искусство «приехало».
О том, что все не так просто, однако, говорит уже фабула книги. Беседы Якимовича начинаются с общего упоминания художественной революции, затем идет глава (!) о Маяковском, глава о Малевиче, Филонове и прочих наряду с Маяковским завершителях искусства прошлого; текст о явном фаворите автора Кандинском (а заодно его соратниках и современниках в Европе), следом — обращение к архитектурному авангарду и... к архитектуре Америки. Человека, который и впрямь искал бы ликбез, такое содержание только запутало бы, это ход мысли автора с концепцией, которая, очень может быть, останется вещью в себе.
Вот куда клонит Якимович: он хочет дать искусству этическую оценку. В том смысле, в каком этику понимали основатели западной философии, от Платона до Спинозы. Некие незыблемые геометрические законы, правила абстрактной человеческой жизни. Человек здесь мера: в самом начале Якимович проводит водораздел между антропологически дружелюбным и антропологически недружелюбным искусством. Например, Кандинский, очевидно, первое, а Малевич, очевидно, второе.
Неочевидно? Якимович считает иначе. Речь как-никак об изобразительном искусстве. Оно говорит и показывает открыто, надо только правильно смотреть. В книге много говорится об отрицании идеологического, постоянно упоминаются «непредумышленные смыслы» и то, как обстоят дела «на самом деле».
Художник, объясняет автор на примере Кандинского, страдает от «онтологического провала» — то есть от прорехи бытия. В кризисную эпоху, когда уничтожается прошлый привычный мир, дискредитируют себя вера и идеология, художник, если он «дружелюбен» и позитивен, пытается залатать этот провал своими творениями либо, в противоположном случае, продолжает вглядываться в бездну, извлекая смыслы своего сумрачного искусства из хаоса.
Поскольку визуальное искусство лишено «слов», ему было легче других жанров обратиться к чистому, «онтологическому» смыслу, проделать редукцию и деконструкцию, которая вырвет нас из тисков отживших парадигм и образов. Дать нам возможность увидеть мир как он есть, а не фигуративные тени на стенах пещеры. То есть живопись (в частности) — это философия. А что же она еще? Элемент декора?
«Идеологический заряд превращается в онтологическое послание, в образ полнокровного и яркого бытия».
Якимович много пишет о философии, окружавшей художников упомянутой эпохи. Ницше и Шестов, порицаемая, но неизбежная Блаватская, не упомянутый, но явно подразумеваемый Хайдеггер. Все эти мыслители, вбив клин в зазоры тогдашних идеологических схем, сорвав в том числе флер с «искусства», шокировали общество — и вели одиночек, как они думали, в сторону обнаженной недостижимой истины. Чем больше написано слов, тем меньше нужны слова.
С одной стороны, эта философия как бы внеположена собственно «творцу» произведения, его замыслу. Получится то, что должно получиться, никак иначе.
«Искусство делает даже такое, чего художник сам и не собирался делать. В зрительном и смысловом континууме непредвиденные смыслы проявляются как бы сами по себе. <...> Что именно он хотел сказать нам своими беспредметными картинами и что у него получилось сказать? Хотеть сказать — это ведь не то же самое, что сказать на самом деле».
В то же время итоговое высказывание тесно связано с личностью художника. Поэтому в тексте Якимовича столько характерных (хотя явно не исчерпывающих и даже пристрастных) биографических подробностей тех или иных героев. Отсюда глава про Маяковского как фигуру, репрезентативную для русской культуры. Якимович периодически, говоря о живописи и архитектуре, совершает экскурсы в кинематограф и литературу. Прежде всего поэзию — как искусство образное и потому наглядное. Например, своеобразной антитезой Маяковского предстает сумрачный по смыслу, но весьма философичный Рильке.
«Он пишет свой „Часослов” и создает свое собственное поэтическое богословие... Позднее Рильке вполне закономерно переходит к неизобразительным, „нефигуративным” описаниям Божественного присутствия».
Маяковский же для Якимовича антигерой, певец онтологического провала. К революции (даже художественной) рассказчик относится с недоверием, как и к реакции, восклицая «чума на оба ваших дома». Революция Октябрьская и есть тот провал в ад квадрата Малевича, воспетый Маяковским. Без особых церемоний Якимович ассоциирует черный передел Маяковского и русских футуристов (делая исключения для «позитивного» неофутуриста Хлебникова) с открытой уголовщиной. Поэт улицы, «глумила» Владимир Владимирович онтологически близок уголовнику Сталину, и философия раннего советского авангарда оказывается отнюдь не противна тоталитарному государству 1930–1940-х (как это иногда хотят представить современные левые).
В этом что-то есть: итальянские футуристы, о чем упоминает Якимович, имели все же позитивное начало как прямые наследники карнавальной культуры и хотя бы как своего рода патриоты. Французскими «проклятыми» или уголовником Жаном Жене мы можем восхищаться, хоть и отстраненно. Интонации Маяковского с его «желающие получить в морду, становитесь в очередь» слишком узнаваемы в России, чтобы не обратить на них внимания. Короче говоря, русский авангард, за исключением некоторых вечных счастливчиков вроде Ларионова или Гончаровой, обратился на службу зла.
Немецкий авангард, с которым был связан Кандинский, не воспел разрушительной «недружелюбной» тенденции, но был уничтожен, раздавлен тьмой. Исключение, по мысли Якимовича, составил... Баухаус — прорыв в дизайне, попытка поселить человека в светлый и внятный мир. (Другой пример — уважаемый Якимовичем Рудольф Штайнер, создатель духовно-рационалистского храма в Альпах.) Пускай это вроде бы прикладное искусство, но все же служащее облагораживанию человека. Здесь можно отослать к суждениям самого Кандинского из «О духовном в искусстве», где он пишет о «духовном хлебе», пайке, положенной самому непросвещенному человеку даже в самом простом виде.
Становится яснее переход от дизайна к архитектуре. Архитектура — древнейшее искусство, не умеющее лгать, но насквозь идеологичное. От запрещенного нацистами Баухауса и полутупикового советского авангарда Якимович переходит к Франции — прежде всего новациям Ле Корбюзье — и Америке. Автор откровенно восхищается трудолюбивым прагматизмом США, подобно пожилому Гёте, воспевшему новый, свежий американский мир без руин мрачных замков и всяческих загораживающих свет истины традиций. Ориентация на природу вообще важное для Якимовича свидетельство «дружелюбия» и подлинности искусства. Которую он усматривает и в проектах американских особняков, и в казармах Корбюзье, и в американских небоскребах. Последние автор вполне любовно уподобляет пчелиным сотам: природа, созидание...
«Там пишут такое, отчего европейская мораль становится на дыбы. Там строят так, что нам приходится перенастраивать глаза, чтобы оценить новую американскую архитектуру... Новаторы-почвенники рождаются американской почвой так же естественно, как радикальные бунтари больших городов».
Уже поверив мысли о философской миссии искусства, о его дружелюбной помощи человеку, мы начинаем чесать в затылке. Поскольку книга обрывается на этой главе, получается, после революций и ужасов столетней давности унификация и уют — единственная пайка, которая нам положена. Согласимся, что наследие Ле Корбюзье довольно далеко от сказочной Москвы, воображенной Кандинским.
«Он смолоду мечтал о том, как напишет Москву в час заходящего солнца, этот „лучший час московского дня”: „Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламеннокрасные дома, церкви — всякая из них как отдельная песнь, — бешено зеленая трава, низко гудящие деревья, или на тысячу ладов поющий снег, или allegretto голых веток и сучьев, красное, жесткое, непоколебимое, молчаливое кольцо кремлевской стены, а над нею, все превышая собою, подобная торжественному крику забывшего весь мир аллилуйя, белая, длинная, стройно-серьезная черта Ивана Великого”... Это описание несуществующей живописи вызывает такое ощущение, что перед нами ландшафт другой реальности... Прекрасная Москва, притом не столько реальная, сколько явленная в видении и озарении».
Если за неимением недостижимого озарения нам приходится довольствоваться и даже любить «американский прагматизм», может быть, в следующей части цикла спасительной субстанцией абсолюта предстанет пластмасса, принимающая любую форму, всем доступная, вся во всем.
Гадать, впрочем, бессмысленно. Обобщения Якимовича так широки, что через Маяковского и американский архитектурный авангард можно перепрыгнуть к любой другой вершине. Он сам раньше писал об опасности мифологизации искусства (например, представления о большом художнике как ниспровергателе тенденций) и, стремясь уйти от идеологических схем, пришел к умозрительной аксиоматике, отдаленно напоминающей учение Августина о двух градах. Если угодно, Якимович отчасти подобен Делёзу в его рассуждениях о кино, как бы освобожденных от социального контекста, — например, замечание автора о перекодировке немецким экспрессионизмом предшествующего авангарда напоминает лучшие моменты делёзовских штудий, где говорится об ужасной «неорганической жизни материи» в геометрическом аду Вине, Ланга и Мурнау.
Плюс здесь в том, что от книги остается ощущение приятной беседы с умным и понимающим человеком, а ракурс (если не оригинальный, то и не мейнстримный) позволяет посмотреть на известное искусство свежим взглядом, словно протерли тусклое стекло. Минус — в волении равнодушного читателя, который всегда может сказать: «А позвольте вам не поверить», закрыть книгу и уйти обратно в сумрачный лес смыслов.