Скорсезианское христианство
16 марта 2017 ● Православие и мир
«Скорсезе убедителен.
Точнее, убедительна его подача собственного понимания христианства и феномена мученичества, в частности. Однако “убедительна” не значит “истинна”. Ложь тоже может быть убедительной».
Точнее, убедительна его подача собственного понимания христианства и феномена мученичества, в частности. Однако “убедительна” не значит “истинна”. Ложь тоже может быть убедительной».
Кадр из фильма "Молчание"
Протоиерей Игорь Прекуп рассуждает, в чем неправда фильма «Молчание».
Десять минут фильма и неприятный осадок

Протоиерей Игорь Прекуп
По православному сегменту социальных сетей прокатилась волна отзывов о прошлогоднем фильме Мартина Скорсезе «Молчание». Послышались отзывы: насколько антихристианским было его «Последнее искушение», настолько христианским фильмом является «Молчание»! Заинтриговало.
Не то чтобы я не верю в способность человека меняться. Наоборот, очень даже верю. А уж если происходит внутренний переворот при встрече с Богом, это даже естественно, а как иначе-то?! Мелькнула мысль, что великий режиссер мог бы на старости лет проникнуться верой Христовой и преобразиться в простоте.
Когда-то в 1997 году я не нашел в себе сил посмотреть его фильм «Последнее искушение Христа». Православная общественность тогда в течение полугода изо всех сил, сама того не понимая, пиарила его (аналогично тому, как сейчас пиарят «Матильду»), думая, что, требуя его запрета, противостоит разгулу тотальной апостасии.
Впрочем, нет, вру. Немножко посмотрел. Моего терпения хватило минут на десять. Общая концепция, сам принцип трактовки образа Христа и Евангельских событий в целом был понятен, остальное не принципиально. Поэтому я решил не заниматься мазохизмом и выключил телек.
Но и этих десяти минут мне хватило, чтобы надолго остался неприятный осадок, поэтому теперь, когда православные ревнители стали поминать Скорсезе добрым словом, «все ему простив» за «Молчание», я был весьма озадачен. Что ж это за шедевр такой? Неужто и в самом деле его гениальность облеклась во Христа?
Ложь тоже может быть убедительной
Нашел фильм в сети… Сказать «посмотрел» будет не совсем верно. Такие фильмы не смотрят. В них погружаются. Они проникают в душу, во внутренние органы, в плоть и кровь, заряжая нервные клетки и формируя своего рода призмы, сквозь которые человек, порой сам того не осознавая, воспринимает и окружающую реальность, и любую информацию, ассоциирующуюся с образами, созданными совместным трудом сценариста, режиссера, художника, оператора, актеров и всех прочих участников творческого процесса.
Одно из свойств произведения искусства – убедительность. Хорошо это или плохо – в зависимости от идеи, транслируемой им. Но без этого свойства искусства нет. Ни изобразительного, ни литературного, ни театрального, ни кинематографического – никакого.
Скорсезе убедителен. Точнее, убедительна его подача собственного понимания христианства и феномена мученичества, в частности. Однако «убедительна» не значит «истинна». Ложь тоже может быть убедительной.
Когда же это ложь об Истине, убедительность обретает инфернальное качество. Это уже не всего лишь плод фантазии художника, не бред и не бытовое вранье, но дьявольская подмена.
Пусть и невольная со стороны мастера, который, возможно, по неведению, служит всего лишь ее инструментом – инструментом соблазна. А ведь хотя «невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17:1).
Сущность соблазна: какое-нибудь событие в жизни человека, или чей-то поступок, или сказанное кем-то, или возникший в его воображении образ, а также пережитое или переживаемое (в т.ч. и кем-то другим) страдание или наслаждение, горе и радость – всё, что привлекло и зациклило на себе его внимание настолько, что он оказался неспособен разглядеть ловушку, в которую попался.
И что немаловажно, приманкой всегда является то, что манит, привлекает. А привлекает не только порок, но и добродетель. И тот, кто не попадается через свою «удобопреклонность ко греху», приманивается князем мира сего через добродетели. Например, через добродетель милосердия… Но об этом чуть позже.
Чем соблазнительно «Молчание»
Фильм сильный. Он весь проникнут глубоким уважением и состраданием. Автор, несомненно, искренен в этом. Только с чего вдруг кто-то видит в «Молчании» принципиально иной подход к христианству, принципиально иной дух, иное понимание Евангелия, нежели в «Последнем искушении»? Напротив, это его логичное продолжение, спустя почти 30 лет.
Жанры отличаются, сюжет совершенно другой, но это все несущественное. В «Последнем искушении» многое смущало чисто внешне: отсутствие малейшего сходства Уиллема Дефо, сыгравшего главную роль, с иконографическим образом Спасителя, существенные расхождения с евангельским повествованием и пр.
Тогда как в «Молчании» даже внешний вид главного героя иконописный, а по манерам своим напоминает знакомые образы православных монахов. Там – чужое, здесь – родное. Сравнивая эти два шедевра Мартина Скорсезе, очередной раз убеждаешься в справедливости восточной пословицы: «внешность обманчива, на то она и дана».

Мартин Скорсезе на съемках фильма “Молчание”
И тот, и другой фильмы – соблазнительны.
Чем соблазнительно «Последнее искушение» для многих неутвержденных в православной вере людей? Да тем же, чем и «Молчание» для утвержденных. Впрочем, первый фильм соблазняет и воцерковленного православного христианина, отталкивая, а второй его же соблазняет, но уже привлекая… особенно на фоне первого.
И в обоих случаях ортодоксальный зритель попадается в бесовскую ловушку: в первом, справедливо отвергая постмодернистскую версию с ее «неканоничными» образами и трактовками, он впадает в богопротивные состояния души, воображая, что гнев его праведен, а ревность его – по Богу, раз они вызваны таким поводом; во втором попадается еще крепче, доверчиво проникаясь идеей автора, лишь потому, что на этот раз его трактовка христианства исторически правдоподобна и выдержана в традиционных тонах.
Это иллюзия, что в первом случае режиссер «против Христа», а во втором – «за Него». На самом же деле он и в первом не «против», и во втором – не «за». Все гораздо сложней в наше особо непростое время.
Сознательное отвержение или ложная интерпретация
Скорсезе верен себе. Во всяком случае, из отличия между обсуждаемыми двумя фильмами никак не следует, что в его мировоззрении произошел существенный переворот. «Последнее искушение» не более антихристианский фильм, чем «Молчание», если не менее. Следует все же отличать сознательное отвержение христианства от его ложной интерпретации.
Осознанная враждебность некоего человека к христианству не исключает его непроизвольного нахождения где-то «недалеко от Царствия Божия» (Мк. 12:34), если, руководствуясь совестью, он чувствует и поступает по-христиански, а богоборчество его – от искреннего заблуждения, вызванного соблазном.
Ложная интерпретация Божественного Откровения тоже совсем необязательно совершается из атеистических или сатанинских убеждений. Например, было бы глупо утверждать, что ересиархи и их последователи были богоненавистниками. Напротив, еретики зачастую были образцово религиозными людьми, но… по-своему.
И это «свое», инспирированное началозлобным змием, они противопоставляли как Богооткровенной истине, хранимой в Священном Предании, так и самой Церкви, единство которой раздирали в угоду полюбившимся им порождениям своего поврежденного грехом блестящего ума.
Не нравится моя версия – создай свою
Но, что важно еще понять, ни язычество, ни ислам, ни иудаизм – никакой нехристианский мир никогда не претендовал на свои версии христианства. Иное дело – мир постхристианский, который, считая себя свободным от заповедей и догматов, не упускает, однако, возможности распоряжаться христианской частью своего культурного достояния самым причудливым, чтобы не сказать самодурным, образом.
Особенно актуально это стало в эпоху постмодернизма, т.е. начиная с 70-х гг. прошлого века. Не вдаваясь в терминологические нюансы и не ставя себе задачи раскрывать понятия постструктурализма и рожденного им постмодернизма, ограничимся лишь указанием на те стороны, которые нам необходимы, чтобы понимать некоторые исходные позиции в современном искусстве, в частности в том, которое, из всех искусств, согласно Ленину, является для нас важнейшим – кино.
Художник постмодерна (постсовременности) искренен (говорю это без крупицы иронии) в своем непонимании, чего от него хотят возмущенные толпы, обвиняющие его в кощунстве на том лишь основании, что он представил свою версию «текста»…
Впрочем, даже не свою, а сам текст (имеется в виду не только литературный, а вообще некое послание, содержащее определенную идею, осуществленное в любой форме, «месседж»), который через него обрел новую жизнь. Ну не нравится тебе моя версия, создай свою, кто тебе мешает?.. – недоумевает он.
Вопрос «Как наше слово отзовется?» даже не возникает
Оскорбить чьи-то чувства не является целью постмодернистского творчества. Вопрос «как наше слово отзовется» даже не игнорируется, он просто не возникает, потому как все имеют право на самовыражение, а «на обиженных воду возят» и пр.
Его произведение – ничего общего не имеет с изначальным «текстом». Ну, там… название в чем-то, а то и полностью совпадает, ну какие-то имена, обстоятельства – какая разница? Это самостоятельное произведение, оригинальный субъект культуры (да-да, не объект, а субъект, живущий собственной жизнью), таковым и будьте добры его воспринимать, – как бы обращается к нам художник.
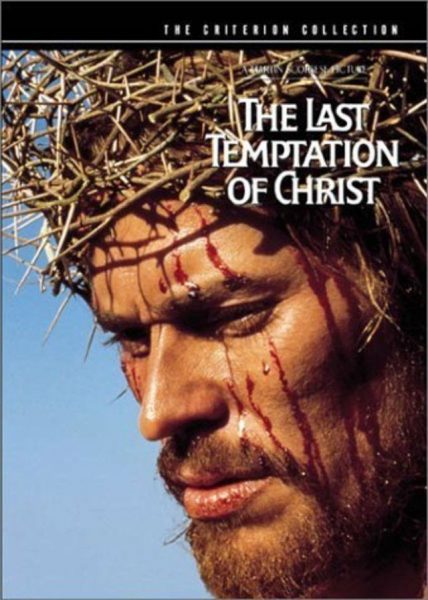
“Последнее искушение Христа”. Постер
«Иисус» из «Последнего искушения» – это не Сын Божий, нас ради воплотившийся, распятый, воскресший, вознесшийся и сидящий одесную Отца. Это вдохновленная образом Иисуса, как его понял Скорсезе, самостоятельная реальность.
Его «Иисус» не Иисус, Которого мы исповедуем ко спасению, а одноименный симулякр, посредством которого автор сообщает зрителю свой «месседж». «Симулякр» – это понятие постструктурализма, образ, живущий собственной, свободной от первообраза жизнью: «антисимвол», если исходить из того, что символ – это видимая часть невидимой реальности. А тут имя, вроде как, общее с прототипом, но существо самостоятельное, «свободное» от него.
Причем, если досмотреть «Последнее искушение» до конца, то выясняется, что его «Иисус» в итоге все же преодолевает четвертое искушение сатаны, представшего Ему на этот раз не в образе ползучего гада, но миловидного, как бы сошедшего со слащавых полотен религиозной живописи, «ангела-хранителя», которого в финале разоблачают апостолы, первый от которых, конечно же, Иуда.
Весь этот, как будто бы одобряемый автором, выбор «сойти с креста» и зажить «нормальной, человеческой жизнью», на поверку оказывается ничем иным, как дьявольским наваждением. Получается, что при всех авторских вольностях в интерпретации Евангельской истории, осознанной хулы против Христа и Креста Скорсезе со своей стороны не допускает.
Он симпатизирует и своему герою, и опосредованно – его Прототипу, хотя и мыслит о Нем явно в оккультном ключе. Оно и неудивительно, если учесть, что Скорсезе не только практикует трансцендентальную медитацию, но и участвует в ее популяризации.
Отречение ради избавления, или Апология предательства
Недавно на «Правмире» была опубликована пронзительная по своему состраданию, просто звенящая от душевной боли статья о. Сергия Круглова «“Молчание”: взойти на крест самому или кого-то отправить».
Автор задает (в первую очередь себе) вопрос: «…Если убивают не тебя самого, а твоих родных и близких, тех ближних, о ком сказано в Евангелии: „Нет выше той любви, если кто положит душу свою за други своя?“ Сможешь ли ради своей веры послать на смерть и их?
Или взвалишь на себя крест потяжелее, поистине адски мучительный: внешне отрекшись и покрыв себя позором, хранить веру в страдающего Христа в тайне, в мучительном молчании, в осознании своей полной немощи? Воистину, этот вопрос тяжкий».
Это вопрос, который, должно быть, задавал себе каждый из нас, читавший или хотя бы что-то слышавший об исповедниках и мучениках, особенно о таких случаях, когда родители шли на подвиг вместе с маленькими детьми, как, например, святая София, чье сердце было насмерть истерзано страданиями дочерей. И кто-то в ужасе недоумевал, как такое возможно, кому это нужно?!.. Сама-то ладно еще, но дочерей зачем на это вдохновлять?.. Да и правильно ли это с точки зрения нашей веры?
«Молчание» – именно такой, недоумевающий в ужасе, крик души о недопустимости страданий ближних – о недопустимости любой ценой, в том числе и ценой отречения от Христа: своего отречения ради их избавления от мучительной смерти, а потому, в понимании Мартина Скорсезе, и отречение это, получается, не от Христа, но лишь от собственного эгоизма и амбиций.
Но если вдуматься глубже, «Молчание» – это продолжение апологии предательства, начатой в «Последнем искушении». Вспомним, как трактуется там предательство Иуды: как высшее проявление самоотрекающейся любви.
Та же идея воплощается в «тропе милосердия», которую избирает главный герой фильма «Молчание» о. Себастьян Родригес. Избирает в два этапа. Сначала он, сам еще будучи твердо настроен «претерпеть до конца», из жалости благословляет своей пастве совершать акт отречения «э-фуми» (э – изображение, фуми – наступать), выражавшийся в символическом попирании ногой изображения Спасителя или Пресвятой Богородицы («фуми-э» – предназначенное для попрания изображение). Затем и он попирает образ Распятия…
Не из трусости, не из малодушия, но из милосердия: чтобы избавить от страданий и смерти христиан, которых, несмотря на то, что они уже отреклись, продолжают медленно и мучительно убивать с одной только целью: чтобы вынудить к отступничеству и его (другой, прибывший с ним миссионер и его сокурсник по семинарии, Франсиско Гаррпе, в отличие от него, не благословлял никого на отречение, и сам умер, пытаясь спасти из воды мучеников, которых топили в соломенных кулях).

“Молчание”
Роман гораздо глубже, чем фильм
Стоит отметить, что в романе Сюсаку Эндо, по мотивам которого Мартином Скорсезе был написан сценарий и поставлен фильм, нет апологии предательства. Христианство писателя, его, если можно так выразиться, католическая ортодоксальность весьма сомнительна, и протест против христианства, навязанного ему в детстве матерью, как и дальнейшие внутренние борения нашли свое воплощение в романе, особенно в речах искусителей. Но при всем его сочувствии главному герою, при всем понимании, даже одобрении решения, как продиктованного состраданием, он вовсе не считает акт отречения чем-то формальным.
Кстати, японские чиновники к этому тоже подходили отнюдь не формально, в отличие от своих римских коллег (которые удовлетворялись горсткой ладана, брошенной на жертвенник, и не требовали никакого богохульства в подтверждение отречения от веры): если следователям казалось, что совершающий э-фуми не вполне искренен, его могли принудить к совершению еще более кощунственных актов, например, плевать на Распятие и грязно хулить Богородицу.
Так вот, сам роман гораздо глубже, чем фильм. В отличие от Скорсезе, Эндо больше ставит вопросы, чем пытается ответить. Роман производит впечатление творческого религиозно-этического поиска. И момент совершения о. Себастьяном э-фуми выглядит в романе как полная катастрофа, тогда как в фильме этот эпизод трагичен, страшен, главного героя ужасно жалко, но… катастрофы нет.
По Скорсезе, о. Себастьян однозначно приносит жертву святую, благоуханную, во имя Самого Христа и вполне в Его духе: «Наступи! – прошептал ему медный Христос. – Наступи! Я знаю, как тебе больно. Наступи. Я пришел в этот мир, чтобы вы попирали меня, я несу этот крест, чтобы облегчить ваши страдания».
Мучения Родригеса чисто нравственные, но… субъективные, обусловленные как бы стереотипами и комплексами, а не чем-то объективным, вечным, неизменным и абсолютным. По режиссерской версии, Родригесу больно, потому что он предает себя, свои идеалы, к тому же он обречен на осуждение своими единоверцами, которым не дано испытать его мучения, да еще и на пожизненный плен в Стране восходящего солнца – это вызывает сочувствие, его ужасно по-человечески жалко, но за него не страшно: ведь на самом деле он же не совершает ничего дурного в метафизическом плане, для него это способ спасти людей и сохранить для себя возможность исповедовать свою веру втайне.
Финал фильма дает прозрачный намек на то, что Родригес и его жена оставались тайными христианами. Такое впечатление, что, по версии автора, наконец они оказались в том положении, в котором не только может, но и должно существовать христианство – как дело чисто личное, чисто внутреннее.
Да, жалко, что человек вынужден скрывать свою веру «страха ради самурайска», это, конечно, перебор, и жалко, что он вынужден был оказывать экспертные услуги спецслужбам (согласно роману, выявляя христиан, а не только предметы их культа на таможне, как в фильме), но, как принято нынче говорить, «ему не оставили выбора».

Голос «Иисуса из фуми-э» обессмысливает подвиг мученичества
Почему я выше сказал, что в «Молчании» проводится та же линия, что и в «Последнем искушении», но только еще более изощренно антихристианская?
Да потому, что «Иисус» из «Последнего искушения», во-первых, не претендует на реальность, это «симулякр по умолчанию», а во-вторых, он все же возвращается на Крест, ценность которого, пусть и весьма своеобразно, все же признается автором как достойная цель, а не сплошное недоразумение.
В «Молчании» же «Иисус из фуми-э» преподносится нам не как плод измененного состояния сознания, но как Сын Человеческий, нас ради человек и нашего ради спасения сшедший с небес, распятый, страдавший, погребенный и воскресший – именно Он будто бы вещает из антииконы то, что очень хорошо вписывается в современное общераспространенное представление о милосердии, но напрочь отвергает евангельское понимание этой добродетели.
Голос «Иисуса из фуми-э» обессмысливает не только сам подвиг мученичества и исповедничества, представляя «зазря пропавшими» как древнехристианских мучеников и исповедников, так и их преемников из всех народов и времен, в частности новомучеников и исповедников Российских (что, опять же, очень гладко вписывается в насаждаемую нынче модель патриотического воспитания), но еще и прямо противоречит как многим словам Спасителя, так и самой концепции христианского мученичества, которая никогда не догматизировалась, но издревле очень ясно и естественно осознавалась.
Тема исповедничества в широком смысле, как исповедания веры словом и делом, всей жизнью, в мире враждебном Христу и Его учению, проходит по всему содержанию Евангелия и во всей силе звучит в прощальной беседе Спасителя, усиливаясь в молитве о Чаше в Гефсиманском саду и достигая апогея в описании страстей Господних и Его крестной смерти. Эта же тема звучит во всех книгах Нового Завета, будучи неотъемлемой частью христианского благовестия от апостолов до наших дней.
Основная причина неприятия христианства (именно христианства, а не его извращенных всевозможными «ревнителями не по разуму» версий) миром, причем неприятия, возрастающего от раздражения до крайней степени неприязни, до лютой ненависти – проста: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Ин. 15:18–21).

Свидетельство веры заложено в программу жизни во Христе
Жизнь во Христе – это всегда исповедничество. Какова бы ни была тяжесть страданий, от чего или от кого бы их ни пришлось потерпеть – от своей страстной натуры, от людей или от бесов, в мученической ли кончине, в многолетнем ли крестоносном исповедническом пути, в страстотерпчестве ли (порой вовсе незаметном) – они понимаются в Евангельском свете как не только неизбежное, но и необходимое для спасения лекарство.
Господь заранее предупреждает апостолов, что им предстоит умирать за Него: «Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Ин. 16:2, 3).
Однако «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10:28). Казалось бы, Господь говорит жестокие, страшные слова Своим ученикам, но Он тут же и укрепляет их: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Мф. 10:29–31).
Укрепляет не обещанием избавления от страданий, а уверением, что все страдания их будут с Его ведома. Да, им предстоят скорби, но не потому, что Он их покинет, нет, напротив, именно потому, что скорби неизбежно связаны с последованием Ему: Его путь – крестный. И Он своих не бросает, но попускает потерпеть необходимое ради полнейшего с Ним единения.
Свт. Иоанн Златоуст, чей путь исповедания веры был поистине страстотерпческим, пишет: «Чтобы тогда, когда будут их умерщвлять и закалать, они не подумали, что терпят все потому, что оставлены Богом, опять начинает речь о Божьем промысле… <…> Если же Он знает все, что ни происходит, а вас любит сильнее, нежели отец, – любит так, что и волосы ваши у Него исчислены, то вам не должно бояться. Впрочем, сказал это не потому, будто Бог исчисляет волосы, но чтобы показать совершенство ведения Божия и великое попечение о них. Итак, если Бог и знает все происходящее, и может сохранить вас, и хочет, то каким бы вы ни подвергались страданиям, не думайте, что страдаете потому, что Бог оставил вас. Он не хочет избавить вас от бед, но хочет заставить вас презирать беды, потому что в этом-то и состоит настоящее избавление от бед» (выделено нами. – И.П.).
Святитель Иоанн знал, о чем писал. Это не значит, что Господь не избавляет от бед, не хранит от обыденных напастей. Из того, что по нашей вине, по стечению обстоятельств или по бесовской злобе могло бы с нами произойти, Он попускает нам понести лишь крупицу.
Тут важно понять разницу между благой волей Божией благоугодной и Его же волей попустительной. Прп. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» пишет, что одно «бывает по благоволению, другое – по снисхождению. По благоволению – то, что беспрекословно хорошо, видов же снисхождения много». Если то, что по благоволению (например, спасение всех людей) – от Него, то попускаемое, «сопутствующее» благоволению – некоторая уступка свободной воле человека.
Подвиг свидетельства веры словом и делом и сопряженные с ним страдания, как говорится, заложены в программу жизни во Христе. Но если на само благовестие во всех его формах (в первую очередь личным примером) и на положительный на него отклик – благоугодная воля Божия, то на противодействие благовестию, на скорби Его возлюбленных чад – попустительная; на духовное возрастание в скорбях – благоугодная, на отступничество, падение и погибель – попустительная.
Связь относительного зла как страдания и абсолютного зла как источника страдания
Господь, как уже было упомянуто выше, отнюдь не все зло попускает, которое могло бы произойти, из-за нашей удобопреклонности ко греху, из-за нашего порой настойчивого уклонения в сторону от спасительного пути, из-за соблазнов от падшей природы нашей, от людей и от бесов.
Но иногда Он вынужден хотя бы чуть-чуть попустить нам почувствовать зло, к которому мы тянемся, чтобы мы, oбжегшись и осознав причинно-следственную связь зла и страдания из-за него, или, лучше сказать, взаимосвязь относительного зла как страдания и абсолютного зла как источника страдания, свободно уклонились бы с погибельного «пространного пути» на «узкий путь, ведущий в жизнь» (Мф. 7:13, 14). А в другом случае, наоборот, Он попускает зло праведнику, чтобы искушаемый, памятуя, что «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12), победил искусителя.
Прп. Иоанн Дамаскин рассматривает разные случаи попущения Божия, когда, например, праведник впадает в несчастья, дабы всем стала явна его добродетель (пример Иова), или ради того, чтобы оградить святого от превозношения (как апостола Павла); или когда кто-нибудь страдает ради исправления другого, или для славы Сына Человеческого; или, например, чтобы возбудить в душах мужество и соревнование в духовном подвиге, каковыми были страдания мучеников, свидетельствовавших своим подвигом истинность благовестия.
«Симон! Симон! – обращается Господь к Петру на Тайной вечери, – се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31–32). «Сеять» в данном случае имеется в виду не в смысле «насаждать», «распространять», а в смысле «просеивать», т.е. подвергать испытаниям.
Мученик – это активная, а не пассивная позиция
Из двенадцати апостолов – один отпавший, десять мучеников и один (св. Иоанн Богослов) – исповедник, если классифицировать по общепринятой схеме, согласно которой мучениками называем тех, кто был убит за веру, а исповедниками – тех, кто подвергся гонениям за нее, но умер естественной смертью, даже если перенесенные страдания приблизили кончину или косвенно способствовали ей.
Но, чтобы усвоить понятие «мученик» во всей полноте изначального смысла и, осуществляя принцип соборности, приобщиться сознанию Древней Церкви, надо вникнуть в значение греческого слова, которое переведено на русский как «мученик».
Это важно, чтобы не допускать понятийной путаницы, из-за которой в повседневном общении принято «мучениками» называть любых страдальцев, каковы бы ни были причины и цели их мучений, и как бы они их ни переносили. Такое «мученичество» пассивно в отношении скорбей. Вызывает восхищение мужество, с которым страдалец переносит мучения, как он борется, например, с болезнью, проявляя чудеса силы воли в стремлении выздороветь или хотя бы отодвинуть полнейшую беспомощность или смерть, но у него нет выбора болеть или не болеть, жить или умереть, он пассивен в отношении источника и причины страданий.
Мученик – это активная, а не пассивная позиция. Даже если не настаивать, что «мученик» – это христианское понятие, указывающее на смерть за исповедание Господа, и расширить его, отказавшись от религиозного признака, то среди, например, убитых в нацистских лагерях смерти мучениками можно считать лишь тех, кто оказался там или добровольно (как, например, Януш Корчак, поехавший в Треблинку с детьми из своего приюта), или за борьбу против нацизма (неважно, военные или гражданские), или отказавшихся от побега и оставшихся в лагере, чтобы вести борьбу в подполье (такие случаи тоже были) – именно потому, что существенным признаком понятия «мученик» является активная позиция, свободный выбор, связанный с убеждениями.
Прошу не спешить оскорбляться и возмущаться за невинно убиенных. В мною сказанном нет намерения унизить их и принизить степень понесенных ими страданий, или, не приведи Господь, смягчить вину их мучителей. Просто все предметы и явления надо называть своими именами. Мучение – несущественный признак явления мученичества. Некоторые мученики были убиты быстро, не успев пройти через длительные пытки, иные – даже не успев креститься («крещение кровью»). От этого их подвиг не перестает быть мученическим.
Некоторые исповедники страдали намного больше, были покалечены, умерли, например, от болезней в лагерях, ссылках или на пути к ним, но мы называем их именно исповедниками, а не мучениками.
Как добровольное жертвоприношение, мученичество является сакральным актом, и называть этим именем любые другие мучения и страдания, игнорируя вышеупомянутые существенные признаки свидетельства веры – это профанация понятия.

Кадр из фильма “Молчание”
Религия или идеология
Но вернемся к статье отца Сергия Круглова, который нисколько не стремится кого-либо поучать. Будучи редким по нравственной чуткости пастырем, он делится своими переживаниями и, в основном, ставит вопросы, причем далеко не риторические. Это вопросы, на которые можно и нужно отвечать, но необязательно сразу; над ними следует думать.
И я был бы с ним, как обычно, полностью единодушен, если бы он ограничился только формулировкой вопросов, которые перед нами ставит совесть. Однако статья заключается высказыванием убеждения, с которым я никак не могу согласиться.
Вначале о. Сергий говорит: «…Христианство отличается от идеологии тем, что оно – не от мира сего и не призвано служить сиюминутным интересам этого мира, политическим, патриотическим, социальным, еще каким-то. Оно – свободное участие в Царстве Христовом, начавшееся уже здесь, а не идеология». В этой части я с ним согласен полностью.
А вот дальше следует продолжение высказывания: «И простой признак отличия таков: пока ты идешь на крест сам – это христианство, а когда призываешь идти на крест других, неважно ради каких целей – это уже идеология». И с этим я уже никак не могу согласиться, иначе нам придется зачислить в идеологи всех наших предков по духу, которые не только сами ревновали по Богу, стремясь засвидетельствовать веру страданием за нее, но и других призывали. Причем это понималось как нечто само собой разумеющееся.
Да, и в те времена многие отпадали от веры, отрекались, а некоторые хитрили: сами не приносили жертвы идолам, но посылали кого-то из язычников за себя принять участие в жертвоприношении (благо, фейсконтроль пройти было нетрудно за отсутствием в те времена удостоверений личности с фотографиями, не говоря уже о биометрических данных). Но все они понимали, что первое – это отпадение от Церкви, а второе… стыдно, не по-христиански это – так хитрить, уклоняясь от чести, когда Господь призывает сораспяться Ему.
Все, и стойко исповедовавшие веру, и отпадавшие, и уклонявшиеся вышеупомянутым способом – все принимали всерьез сказанное Спасителем: «…Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10:32, 33). Отсюда не только стремление к мученичеству, характерное для древних христиан, но и призывы к этому подвигу.
Все-таки важно, и ради каких целей призывать к «претерпеванию до конца» (Мф. 10:22), и что видеть в страданиях за Христа – объективное благо мученического венца или одно лишь уродливое зло мучительной смерти само по себе?
Если сущность мученичества – объективное благо свидетельства веры и стяжания святости, значит, она такова для всех. Как же мог отец Себастьян Родригес, избирая этот подвиг для себя, отговаривать от него других?
Вспомним, как апостол Петр, услышав от Христа о предстоящих Ему страданиях и смерти в Иерусалиме, начал Его отговаривать идти туда. И что он слышит в ответ? «…Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16:23).
А разве Петр не любовью руководствовался, уговаривая Христа уклониться от крестного пути? Любовью. Какой? – Человеческой, душевной, дружеской. Господь не отвергает и не уничижает душевных чувств, но указывает на опасность отдавать им предпочтение в духовных вопросах.
Родригес невольно, при всех своих достоинствах, при всем искреннем желании пострадать за Христа, оказался соблазном для своей паствы, потому что «думал не о том, что Божие, но что человеческое». Ибо одно дело прощать падения немощным, воссоединяя их с Церковью (что происходило и в древности), но совсем другое – благословлять отрекаться и тем самым, как минимум, уклоняться от венца, уготованного Христом Своим последователям (или вышеупомянутое Христово предостережение – блеф?).
Одно дело разрываться от жалости к страдальцам, но отрекаться от веры, лишь бы избавить их?.. От чего избавить, от Креста?! История христианской святости таких примеров не знает. Апостол Павел пишет, что он желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев своих, родных ему по плоти (Рим. 9:3), но он и не помышляет об отречении от Христа ради них.

“Молчание”
«Четвертое искушение»
«„Наступи! – прошептал ему медный Христос. – Наступи! Я знаю, как тебе больно. Наступи. Я пришел в этот мир, чтобы вы попирали меня, я несу этот крест, чтобы облегчить ваши страдания“. Священник коснулся ногою распятия – и взошло солнце. Вдалеке прокричал петух».
Да, Христос пришел в этот мир пострадать за грешников и принять поругание от неверующих в Него… но не для того, чтобы Его попирали верные. Да, Он облегчает страдания… но не ради этого Он «несет этот крест».
Протоиерей Игорь Прекуп рассуждает, в чем неправда фильма «Молчание».
Десять минут фильма и неприятный осадок

Протоиерей Игорь Прекуп
По православному сегменту социальных сетей прокатилась волна отзывов о прошлогоднем фильме Мартина Скорсезе «Молчание». Послышались отзывы: насколько антихристианским было его «Последнее искушение», настолько христианским фильмом является «Молчание»! Заинтриговало.
Не то чтобы я не верю в способность человека меняться. Наоборот, очень даже верю. А уж если происходит внутренний переворот при встрече с Богом, это даже естественно, а как иначе-то?! Мелькнула мысль, что великий режиссер мог бы на старости лет проникнуться верой Христовой и преобразиться в простоте.
Когда-то в 1997 году я не нашел в себе сил посмотреть его фильм «Последнее искушение Христа». Православная общественность тогда в течение полугода изо всех сил, сама того не понимая, пиарила его (аналогично тому, как сейчас пиарят «Матильду»), думая, что, требуя его запрета, противостоит разгулу тотальной апостасии.
Впрочем, нет, вру. Немножко посмотрел. Моего терпения хватило минут на десять. Общая концепция, сам принцип трактовки образа Христа и Евангельских событий в целом был понятен, остальное не принципиально. Поэтому я решил не заниматься мазохизмом и выключил телек.
Но и этих десяти минут мне хватило, чтобы надолго остался неприятный осадок, поэтому теперь, когда православные ревнители стали поминать Скорсезе добрым словом, «все ему простив» за «Молчание», я был весьма озадачен. Что ж это за шедевр такой? Неужто и в самом деле его гениальность облеклась во Христа?
Ложь тоже может быть убедительной
Нашел фильм в сети… Сказать «посмотрел» будет не совсем верно. Такие фильмы не смотрят. В них погружаются. Они проникают в душу, во внутренние органы, в плоть и кровь, заряжая нервные клетки и формируя своего рода призмы, сквозь которые человек, порой сам того не осознавая, воспринимает и окружающую реальность, и любую информацию, ассоциирующуюся с образами, созданными совместным трудом сценариста, режиссера, художника, оператора, актеров и всех прочих участников творческого процесса.
Одно из свойств произведения искусства – убедительность. Хорошо это или плохо – в зависимости от идеи, транслируемой им. Но без этого свойства искусства нет. Ни изобразительного, ни литературного, ни театрального, ни кинематографического – никакого.
Скорсезе убедителен. Точнее, убедительна его подача собственного понимания христианства и феномена мученичества, в частности. Однако «убедительна» не значит «истинна». Ложь тоже может быть убедительной.
Когда же это ложь об Истине, убедительность обретает инфернальное качество. Это уже не всего лишь плод фантазии художника, не бред и не бытовое вранье, но дьявольская подмена.
Пусть и невольная со стороны мастера, который, возможно, по неведению, служит всего лишь ее инструментом – инструментом соблазна. А ведь хотя «невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17:1).
Сущность соблазна: какое-нибудь событие в жизни человека, или чей-то поступок, или сказанное кем-то, или возникший в его воображении образ, а также пережитое или переживаемое (в т.ч. и кем-то другим) страдание или наслаждение, горе и радость – всё, что привлекло и зациклило на себе его внимание настолько, что он оказался неспособен разглядеть ловушку, в которую попался.
И что немаловажно, приманкой всегда является то, что манит, привлекает. А привлекает не только порок, но и добродетель. И тот, кто не попадается через свою «удобопреклонность ко греху», приманивается князем мира сего через добродетели. Например, через добродетель милосердия… Но об этом чуть позже.
Чем соблазнительно «Молчание»
Фильм сильный. Он весь проникнут глубоким уважением и состраданием. Автор, несомненно, искренен в этом. Только с чего вдруг кто-то видит в «Молчании» принципиально иной подход к христианству, принципиально иной дух, иное понимание Евангелия, нежели в «Последнем искушении»? Напротив, это его логичное продолжение, спустя почти 30 лет.
Жанры отличаются, сюжет совершенно другой, но это все несущественное. В «Последнем искушении» многое смущало чисто внешне: отсутствие малейшего сходства Уиллема Дефо, сыгравшего главную роль, с иконографическим образом Спасителя, существенные расхождения с евангельским повествованием и пр.
Тогда как в «Молчании» даже внешний вид главного героя иконописный, а по манерам своим напоминает знакомые образы православных монахов. Там – чужое, здесь – родное. Сравнивая эти два шедевра Мартина Скорсезе, очередной раз убеждаешься в справедливости восточной пословицы: «внешность обманчива, на то она и дана».

Мартин Скорсезе на съемках фильма “Молчание”
И тот, и другой фильмы – соблазнительны.
Чем соблазнительно «Последнее искушение» для многих неутвержденных в православной вере людей? Да тем же, чем и «Молчание» для утвержденных. Впрочем, первый фильм соблазняет и воцерковленного православного христианина, отталкивая, а второй его же соблазняет, но уже привлекая… особенно на фоне первого.
И в обоих случаях ортодоксальный зритель попадается в бесовскую ловушку: в первом, справедливо отвергая постмодернистскую версию с ее «неканоничными» образами и трактовками, он впадает в богопротивные состояния души, воображая, что гнев его праведен, а ревность его – по Богу, раз они вызваны таким поводом; во втором попадается еще крепче, доверчиво проникаясь идеей автора, лишь потому, что на этот раз его трактовка христианства исторически правдоподобна и выдержана в традиционных тонах.
Это иллюзия, что в первом случае режиссер «против Христа», а во втором – «за Него». На самом же деле он и в первом не «против», и во втором – не «за». Все гораздо сложней в наше особо непростое время.
Сознательное отвержение или ложная интерпретация
Скорсезе верен себе. Во всяком случае, из отличия между обсуждаемыми двумя фильмами никак не следует, что в его мировоззрении произошел существенный переворот. «Последнее искушение» не более антихристианский фильм, чем «Молчание», если не менее. Следует все же отличать сознательное отвержение христианства от его ложной интерпретации.
Осознанная враждебность некоего человека к христианству не исключает его непроизвольного нахождения где-то «недалеко от Царствия Божия» (Мк. 12:34), если, руководствуясь совестью, он чувствует и поступает по-христиански, а богоборчество его – от искреннего заблуждения, вызванного соблазном.
Ложная интерпретация Божественного Откровения тоже совсем необязательно совершается из атеистических или сатанинских убеждений. Например, было бы глупо утверждать, что ересиархи и их последователи были богоненавистниками. Напротив, еретики зачастую были образцово религиозными людьми, но… по-своему.
И это «свое», инспирированное началозлобным змием, они противопоставляли как Богооткровенной истине, хранимой в Священном Предании, так и самой Церкви, единство которой раздирали в угоду полюбившимся им порождениям своего поврежденного грехом блестящего ума.
Не нравится моя версия – создай свою
Но, что важно еще понять, ни язычество, ни ислам, ни иудаизм – никакой нехристианский мир никогда не претендовал на свои версии христианства. Иное дело – мир постхристианский, который, считая себя свободным от заповедей и догматов, не упускает, однако, возможности распоряжаться христианской частью своего культурного достояния самым причудливым, чтобы не сказать самодурным, образом.
Особенно актуально это стало в эпоху постмодернизма, т.е. начиная с 70-х гг. прошлого века. Не вдаваясь в терминологические нюансы и не ставя себе задачи раскрывать понятия постструктурализма и рожденного им постмодернизма, ограничимся лишь указанием на те стороны, которые нам необходимы, чтобы понимать некоторые исходные позиции в современном искусстве, в частности в том, которое, из всех искусств, согласно Ленину, является для нас важнейшим – кино.
Художник постмодерна (постсовременности) искренен (говорю это без крупицы иронии) в своем непонимании, чего от него хотят возмущенные толпы, обвиняющие его в кощунстве на том лишь основании, что он представил свою версию «текста»…
Впрочем, даже не свою, а сам текст (имеется в виду не только литературный, а вообще некое послание, содержащее определенную идею, осуществленное в любой форме, «месседж»), который через него обрел новую жизнь. Ну не нравится тебе моя версия, создай свою, кто тебе мешает?.. – недоумевает он.
Вопрос «Как наше слово отзовется?» даже не возникает
Оскорбить чьи-то чувства не является целью постмодернистского творчества. Вопрос «как наше слово отзовется» даже не игнорируется, он просто не возникает, потому как все имеют право на самовыражение, а «на обиженных воду возят» и пр.
Его произведение – ничего общего не имеет с изначальным «текстом». Ну, там… название в чем-то, а то и полностью совпадает, ну какие-то имена, обстоятельства – какая разница? Это самостоятельное произведение, оригинальный субъект культуры (да-да, не объект, а субъект, живущий собственной жизнью), таковым и будьте добры его воспринимать, – как бы обращается к нам художник.
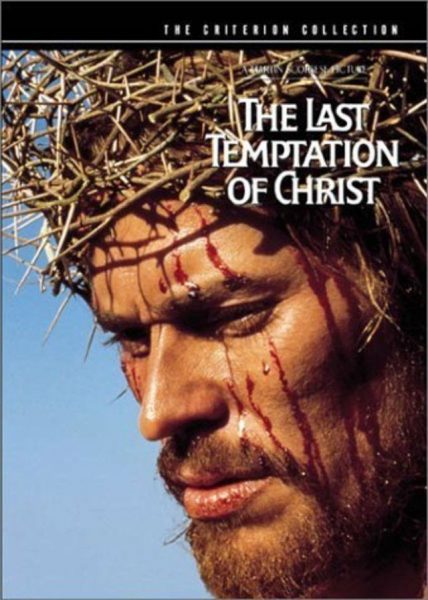
“Последнее искушение Христа”. Постер
«Иисус» из «Последнего искушения» – это не Сын Божий, нас ради воплотившийся, распятый, воскресший, вознесшийся и сидящий одесную Отца. Это вдохновленная образом Иисуса, как его понял Скорсезе, самостоятельная реальность.
Его «Иисус» не Иисус, Которого мы исповедуем ко спасению, а одноименный симулякр, посредством которого автор сообщает зрителю свой «месседж». «Симулякр» – это понятие постструктурализма, образ, живущий собственной, свободной от первообраза жизнью: «антисимвол», если исходить из того, что символ – это видимая часть невидимой реальности. А тут имя, вроде как, общее с прототипом, но существо самостоятельное, «свободное» от него.
Причем, если досмотреть «Последнее искушение» до конца, то выясняется, что его «Иисус» в итоге все же преодолевает четвертое искушение сатаны, представшего Ему на этот раз не в образе ползучего гада, но миловидного, как бы сошедшего со слащавых полотен религиозной живописи, «ангела-хранителя», которого в финале разоблачают апостолы, первый от которых, конечно же, Иуда.
Весь этот, как будто бы одобряемый автором, выбор «сойти с креста» и зажить «нормальной, человеческой жизнью», на поверку оказывается ничем иным, как дьявольским наваждением. Получается, что при всех авторских вольностях в интерпретации Евангельской истории, осознанной хулы против Христа и Креста Скорсезе со своей стороны не допускает.
Он симпатизирует и своему герою, и опосредованно – его Прототипу, хотя и мыслит о Нем явно в оккультном ключе. Оно и неудивительно, если учесть, что Скорсезе не только практикует трансцендентальную медитацию, но и участвует в ее популяризации.
Отречение ради избавления, или Апология предательства
Недавно на «Правмире» была опубликована пронзительная по своему состраданию, просто звенящая от душевной боли статья о. Сергия Круглова «“Молчание”: взойти на крест самому или кого-то отправить».
Автор задает (в первую очередь себе) вопрос: «…Если убивают не тебя самого, а твоих родных и близких, тех ближних, о ком сказано в Евангелии: „Нет выше той любви, если кто положит душу свою за други своя?“ Сможешь ли ради своей веры послать на смерть и их?
Или взвалишь на себя крест потяжелее, поистине адски мучительный: внешне отрекшись и покрыв себя позором, хранить веру в страдающего Христа в тайне, в мучительном молчании, в осознании своей полной немощи? Воистину, этот вопрос тяжкий».
Это вопрос, который, должно быть, задавал себе каждый из нас, читавший или хотя бы что-то слышавший об исповедниках и мучениках, особенно о таких случаях, когда родители шли на подвиг вместе с маленькими детьми, как, например, святая София, чье сердце было насмерть истерзано страданиями дочерей. И кто-то в ужасе недоумевал, как такое возможно, кому это нужно?!.. Сама-то ладно еще, но дочерей зачем на это вдохновлять?.. Да и правильно ли это с точки зрения нашей веры?
«Молчание» – именно такой, недоумевающий в ужасе, крик души о недопустимости страданий ближних – о недопустимости любой ценой, в том числе и ценой отречения от Христа: своего отречения ради их избавления от мучительной смерти, а потому, в понимании Мартина Скорсезе, и отречение это, получается, не от Христа, но лишь от собственного эгоизма и амбиций.
Но если вдуматься глубже, «Молчание» – это продолжение апологии предательства, начатой в «Последнем искушении». Вспомним, как трактуется там предательство Иуды: как высшее проявление самоотрекающейся любви.
Та же идея воплощается в «тропе милосердия», которую избирает главный герой фильма «Молчание» о. Себастьян Родригес. Избирает в два этапа. Сначала он, сам еще будучи твердо настроен «претерпеть до конца», из жалости благословляет своей пастве совершать акт отречения «э-фуми» (э – изображение, фуми – наступать), выражавшийся в символическом попирании ногой изображения Спасителя или Пресвятой Богородицы («фуми-э» – предназначенное для попрания изображение). Затем и он попирает образ Распятия…
Не из трусости, не из малодушия, но из милосердия: чтобы избавить от страданий и смерти христиан, которых, несмотря на то, что они уже отреклись, продолжают медленно и мучительно убивать с одной только целью: чтобы вынудить к отступничеству и его (другой, прибывший с ним миссионер и его сокурсник по семинарии, Франсиско Гаррпе, в отличие от него, не благословлял никого на отречение, и сам умер, пытаясь спасти из воды мучеников, которых топили в соломенных кулях).

“Молчание”
Роман гораздо глубже, чем фильм
Стоит отметить, что в романе Сюсаку Эндо, по мотивам которого Мартином Скорсезе был написан сценарий и поставлен фильм, нет апологии предательства. Христианство писателя, его, если можно так выразиться, католическая ортодоксальность весьма сомнительна, и протест против христианства, навязанного ему в детстве матерью, как и дальнейшие внутренние борения нашли свое воплощение в романе, особенно в речах искусителей. Но при всем его сочувствии главному герою, при всем понимании, даже одобрении решения, как продиктованного состраданием, он вовсе не считает акт отречения чем-то формальным.
Кстати, японские чиновники к этому тоже подходили отнюдь не формально, в отличие от своих римских коллег (которые удовлетворялись горсткой ладана, брошенной на жертвенник, и не требовали никакого богохульства в подтверждение отречения от веры): если следователям казалось, что совершающий э-фуми не вполне искренен, его могли принудить к совершению еще более кощунственных актов, например, плевать на Распятие и грязно хулить Богородицу.
Так вот, сам роман гораздо глубже, чем фильм. В отличие от Скорсезе, Эндо больше ставит вопросы, чем пытается ответить. Роман производит впечатление творческого религиозно-этического поиска. И момент совершения о. Себастьяном э-фуми выглядит в романе как полная катастрофа, тогда как в фильме этот эпизод трагичен, страшен, главного героя ужасно жалко, но… катастрофы нет.
По Скорсезе, о. Себастьян однозначно приносит жертву святую, благоуханную, во имя Самого Христа и вполне в Его духе: «Наступи! – прошептал ему медный Христос. – Наступи! Я знаю, как тебе больно. Наступи. Я пришел в этот мир, чтобы вы попирали меня, я несу этот крест, чтобы облегчить ваши страдания».
Мучения Родригеса чисто нравственные, но… субъективные, обусловленные как бы стереотипами и комплексами, а не чем-то объективным, вечным, неизменным и абсолютным. По режиссерской версии, Родригесу больно, потому что он предает себя, свои идеалы, к тому же он обречен на осуждение своими единоверцами, которым не дано испытать его мучения, да еще и на пожизненный плен в Стране восходящего солнца – это вызывает сочувствие, его ужасно по-человечески жалко, но за него не страшно: ведь на самом деле он же не совершает ничего дурного в метафизическом плане, для него это способ спасти людей и сохранить для себя возможность исповедовать свою веру втайне.
Финал фильма дает прозрачный намек на то, что Родригес и его жена оставались тайными христианами. Такое впечатление, что, по версии автора, наконец они оказались в том положении, в котором не только может, но и должно существовать христианство – как дело чисто личное, чисто внутреннее.
Да, жалко, что человек вынужден скрывать свою веру «страха ради самурайска», это, конечно, перебор, и жалко, что он вынужден был оказывать экспертные услуги спецслужбам (согласно роману, выявляя христиан, а не только предметы их культа на таможне, как в фильме), но, как принято нынче говорить, «ему не оставили выбора».

Голос «Иисуса из фуми-э» обессмысливает подвиг мученичества
Почему я выше сказал, что в «Молчании» проводится та же линия, что и в «Последнем искушении», но только еще более изощренно антихристианская?
Да потому, что «Иисус» из «Последнего искушения», во-первых, не претендует на реальность, это «симулякр по умолчанию», а во-вторых, он все же возвращается на Крест, ценность которого, пусть и весьма своеобразно, все же признается автором как достойная цель, а не сплошное недоразумение.
В «Молчании» же «Иисус из фуми-э» преподносится нам не как плод измененного состояния сознания, но как Сын Человеческий, нас ради человек и нашего ради спасения сшедший с небес, распятый, страдавший, погребенный и воскресший – именно Он будто бы вещает из антииконы то, что очень хорошо вписывается в современное общераспространенное представление о милосердии, но напрочь отвергает евангельское понимание этой добродетели.
Голос «Иисуса из фуми-э» обессмысливает не только сам подвиг мученичества и исповедничества, представляя «зазря пропавшими» как древнехристианских мучеников и исповедников, так и их преемников из всех народов и времен, в частности новомучеников и исповедников Российских (что, опять же, очень гладко вписывается в насаждаемую нынче модель патриотического воспитания), но еще и прямо противоречит как многим словам Спасителя, так и самой концепции христианского мученичества, которая никогда не догматизировалась, но издревле очень ясно и естественно осознавалась.
Тема исповедничества в широком смысле, как исповедания веры словом и делом, всей жизнью, в мире враждебном Христу и Его учению, проходит по всему содержанию Евангелия и во всей силе звучит в прощальной беседе Спасителя, усиливаясь в молитве о Чаше в Гефсиманском саду и достигая апогея в описании страстей Господних и Его крестной смерти. Эта же тема звучит во всех книгах Нового Завета, будучи неотъемлемой частью христианского благовестия от апостолов до наших дней.
Основная причина неприятия христианства (именно христианства, а не его извращенных всевозможными «ревнителями не по разуму» версий) миром, причем неприятия, возрастающего от раздражения до крайней степени неприязни, до лютой ненависти – проста: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Ин. 15:18–21).

Свидетельство веры заложено в программу жизни во Христе
Жизнь во Христе – это всегда исповедничество. Какова бы ни была тяжесть страданий, от чего или от кого бы их ни пришлось потерпеть – от своей страстной натуры, от людей или от бесов, в мученической ли кончине, в многолетнем ли крестоносном исповедническом пути, в страстотерпчестве ли (порой вовсе незаметном) – они понимаются в Евангельском свете как не только неизбежное, но и необходимое для спасения лекарство.
Господь заранее предупреждает апостолов, что им предстоит умирать за Него: «Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Ин. 16:2, 3).
Однако «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10:28). Казалось бы, Господь говорит жестокие, страшные слова Своим ученикам, но Он тут же и укрепляет их: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Мф. 10:29–31).
Укрепляет не обещанием избавления от страданий, а уверением, что все страдания их будут с Его ведома. Да, им предстоят скорби, но не потому, что Он их покинет, нет, напротив, именно потому, что скорби неизбежно связаны с последованием Ему: Его путь – крестный. И Он своих не бросает, но попускает потерпеть необходимое ради полнейшего с Ним единения.
Свт. Иоанн Златоуст, чей путь исповедания веры был поистине страстотерпческим, пишет: «Чтобы тогда, когда будут их умерщвлять и закалать, они не подумали, что терпят все потому, что оставлены Богом, опять начинает речь о Божьем промысле… <…> Если же Он знает все, что ни происходит, а вас любит сильнее, нежели отец, – любит так, что и волосы ваши у Него исчислены, то вам не должно бояться. Впрочем, сказал это не потому, будто Бог исчисляет волосы, но чтобы показать совершенство ведения Божия и великое попечение о них. Итак, если Бог и знает все происходящее, и может сохранить вас, и хочет, то каким бы вы ни подвергались страданиям, не думайте, что страдаете потому, что Бог оставил вас. Он не хочет избавить вас от бед, но хочет заставить вас презирать беды, потому что в этом-то и состоит настоящее избавление от бед» (выделено нами. – И.П.).
Святитель Иоанн знал, о чем писал. Это не значит, что Господь не избавляет от бед, не хранит от обыденных напастей. Из того, что по нашей вине, по стечению обстоятельств или по бесовской злобе могло бы с нами произойти, Он попускает нам понести лишь крупицу.
Тут важно понять разницу между благой волей Божией благоугодной и Его же волей попустительной. Прп. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» пишет, что одно «бывает по благоволению, другое – по снисхождению. По благоволению – то, что беспрекословно хорошо, видов же снисхождения много». Если то, что по благоволению (например, спасение всех людей) – от Него, то попускаемое, «сопутствующее» благоволению – некоторая уступка свободной воле человека.
Подвиг свидетельства веры словом и делом и сопряженные с ним страдания, как говорится, заложены в программу жизни во Христе. Но если на само благовестие во всех его формах (в первую очередь личным примером) и на положительный на него отклик – благоугодная воля Божия, то на противодействие благовестию, на скорби Его возлюбленных чад – попустительная; на духовное возрастание в скорбях – благоугодная, на отступничество, падение и погибель – попустительная.
Связь относительного зла как страдания и абсолютного зла как источника страдания
Господь, как уже было упомянуто выше, отнюдь не все зло попускает, которое могло бы произойти, из-за нашей удобопреклонности ко греху, из-за нашего порой настойчивого уклонения в сторону от спасительного пути, из-за соблазнов от падшей природы нашей, от людей и от бесов.
Но иногда Он вынужден хотя бы чуть-чуть попустить нам почувствовать зло, к которому мы тянемся, чтобы мы, oбжегшись и осознав причинно-следственную связь зла и страдания из-за него, или, лучше сказать, взаимосвязь относительного зла как страдания и абсолютного зла как источника страдания, свободно уклонились бы с погибельного «пространного пути» на «узкий путь, ведущий в жизнь» (Мф. 7:13, 14). А в другом случае, наоборот, Он попускает зло праведнику, чтобы искушаемый, памятуя, что «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12), победил искусителя.
Прп. Иоанн Дамаскин рассматривает разные случаи попущения Божия, когда, например, праведник впадает в несчастья, дабы всем стала явна его добродетель (пример Иова), или ради того, чтобы оградить святого от превозношения (как апостола Павла); или когда кто-нибудь страдает ради исправления другого, или для славы Сына Человеческого; или, например, чтобы возбудить в душах мужество и соревнование в духовном подвиге, каковыми были страдания мучеников, свидетельствовавших своим подвигом истинность благовестия.
«Симон! Симон! – обращается Господь к Петру на Тайной вечери, – се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31–32). «Сеять» в данном случае имеется в виду не в смысле «насаждать», «распространять», а в смысле «просеивать», т.е. подвергать испытаниям.
Мученик – это активная, а не пассивная позиция
Из двенадцати апостолов – один отпавший, десять мучеников и один (св. Иоанн Богослов) – исповедник, если классифицировать по общепринятой схеме, согласно которой мучениками называем тех, кто был убит за веру, а исповедниками – тех, кто подвергся гонениям за нее, но умер естественной смертью, даже если перенесенные страдания приблизили кончину или косвенно способствовали ей.
Но, чтобы усвоить понятие «мученик» во всей полноте изначального смысла и, осуществляя принцип соборности, приобщиться сознанию Древней Церкви, надо вникнуть в значение греческого слова, которое переведено на русский как «мученик».
Это важно, чтобы не допускать понятийной путаницы, из-за которой в повседневном общении принято «мучениками» называть любых страдальцев, каковы бы ни были причины и цели их мучений, и как бы они их ни переносили. Такое «мученичество» пассивно в отношении скорбей. Вызывает восхищение мужество, с которым страдалец переносит мучения, как он борется, например, с болезнью, проявляя чудеса силы воли в стремлении выздороветь или хотя бы отодвинуть полнейшую беспомощность или смерть, но у него нет выбора болеть или не болеть, жить или умереть, он пассивен в отношении источника и причины страданий.
Мученик – это активная, а не пассивная позиция. Даже если не настаивать, что «мученик» – это христианское понятие, указывающее на смерть за исповедание Господа, и расширить его, отказавшись от религиозного признака, то среди, например, убитых в нацистских лагерях смерти мучениками можно считать лишь тех, кто оказался там или добровольно (как, например, Януш Корчак, поехавший в Треблинку с детьми из своего приюта), или за борьбу против нацизма (неважно, военные или гражданские), или отказавшихся от побега и оставшихся в лагере, чтобы вести борьбу в подполье (такие случаи тоже были) – именно потому, что существенным признаком понятия «мученик» является активная позиция, свободный выбор, связанный с убеждениями.
Прошу не спешить оскорбляться и возмущаться за невинно убиенных. В мною сказанном нет намерения унизить их и принизить степень понесенных ими страданий, или, не приведи Господь, смягчить вину их мучителей. Просто все предметы и явления надо называть своими именами. Мучение – несущественный признак явления мученичества. Некоторые мученики были убиты быстро, не успев пройти через длительные пытки, иные – даже не успев креститься («крещение кровью»). От этого их подвиг не перестает быть мученическим.
Некоторые исповедники страдали намного больше, были покалечены, умерли, например, от болезней в лагерях, ссылках или на пути к ним, но мы называем их именно исповедниками, а не мучениками.
Как добровольное жертвоприношение, мученичество является сакральным актом, и называть этим именем любые другие мучения и страдания, игнорируя вышеупомянутые существенные признаки свидетельства веры – это профанация понятия.

Кадр из фильма “Молчание”
Религия или идеология
Но вернемся к статье отца Сергия Круглова, который нисколько не стремится кого-либо поучать. Будучи редким по нравственной чуткости пастырем, он делится своими переживаниями и, в основном, ставит вопросы, причем далеко не риторические. Это вопросы, на которые можно и нужно отвечать, но необязательно сразу; над ними следует думать.
И я был бы с ним, как обычно, полностью единодушен, если бы он ограничился только формулировкой вопросов, которые перед нами ставит совесть. Однако статья заключается высказыванием убеждения, с которым я никак не могу согласиться.
Вначале о. Сергий говорит: «…Христианство отличается от идеологии тем, что оно – не от мира сего и не призвано служить сиюминутным интересам этого мира, политическим, патриотическим, социальным, еще каким-то. Оно – свободное участие в Царстве Христовом, начавшееся уже здесь, а не идеология». В этой части я с ним согласен полностью.
А вот дальше следует продолжение высказывания: «И простой признак отличия таков: пока ты идешь на крест сам – это христианство, а когда призываешь идти на крест других, неважно ради каких целей – это уже идеология». И с этим я уже никак не могу согласиться, иначе нам придется зачислить в идеологи всех наших предков по духу, которые не только сами ревновали по Богу, стремясь засвидетельствовать веру страданием за нее, но и других призывали. Причем это понималось как нечто само собой разумеющееся.
Да, и в те времена многие отпадали от веры, отрекались, а некоторые хитрили: сами не приносили жертвы идолам, но посылали кого-то из язычников за себя принять участие в жертвоприношении (благо, фейсконтроль пройти было нетрудно за отсутствием в те времена удостоверений личности с фотографиями, не говоря уже о биометрических данных). Но все они понимали, что первое – это отпадение от Церкви, а второе… стыдно, не по-христиански это – так хитрить, уклоняясь от чести, когда Господь призывает сораспяться Ему.
Все, и стойко исповедовавшие веру, и отпадавшие, и уклонявшиеся вышеупомянутым способом – все принимали всерьез сказанное Спасителем: «…Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10:32, 33). Отсюда не только стремление к мученичеству, характерное для древних христиан, но и призывы к этому подвигу.
Все-таки важно, и ради каких целей призывать к «претерпеванию до конца» (Мф. 10:22), и что видеть в страданиях за Христа – объективное благо мученического венца или одно лишь уродливое зло мучительной смерти само по себе?
Если сущность мученичества – объективное благо свидетельства веры и стяжания святости, значит, она такова для всех. Как же мог отец Себастьян Родригес, избирая этот подвиг для себя, отговаривать от него других?
Вспомним, как апостол Петр, услышав от Христа о предстоящих Ему страданиях и смерти в Иерусалиме, начал Его отговаривать идти туда. И что он слышит в ответ? «…Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16:23).
А разве Петр не любовью руководствовался, уговаривая Христа уклониться от крестного пути? Любовью. Какой? – Человеческой, душевной, дружеской. Господь не отвергает и не уничижает душевных чувств, но указывает на опасность отдавать им предпочтение в духовных вопросах.
Родригес невольно, при всех своих достоинствах, при всем искреннем желании пострадать за Христа, оказался соблазном для своей паствы, потому что «думал не о том, что Божие, но что человеческое». Ибо одно дело прощать падения немощным, воссоединяя их с Церковью (что происходило и в древности), но совсем другое – благословлять отрекаться и тем самым, как минимум, уклоняться от венца, уготованного Христом Своим последователям (или вышеупомянутое Христово предостережение – блеф?).
Одно дело разрываться от жалости к страдальцам, но отрекаться от веры, лишь бы избавить их?.. От чего избавить, от Креста?! История христианской святости таких примеров не знает. Апостол Павел пишет, что он желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев своих, родных ему по плоти (Рим. 9:3), но он и не помышляет об отречении от Христа ради них.

“Молчание”
«Четвертое искушение»
«„Наступи! – прошептал ему медный Христос. – Наступи! Я знаю, как тебе больно. Наступи. Я пришел в этот мир, чтобы вы попирали меня, я несу этот крест, чтобы облегчить ваши страдания“. Священник коснулся ногою распятия – и взошло солнце. Вдалеке прокричал петух».
Да, Христос пришел в этот мир пострадать за грешников и принять поругание от неверующих в Него… но не для того, чтобы Его попирали верные. Да, Он облегчает страдания… но не ради этого Он «несет этот крест».