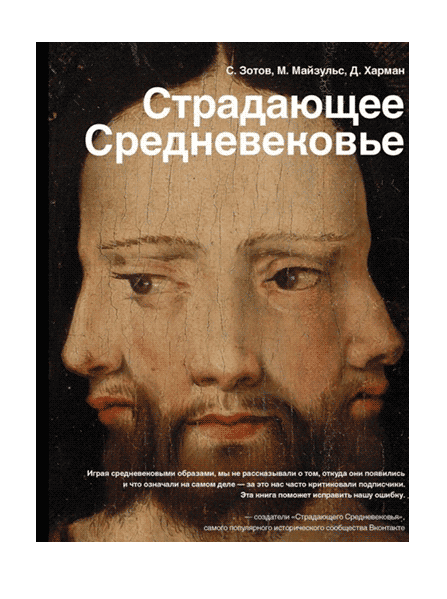«Их грехи продолжают распинать Христа здесь и сейчас»
2 марта 2018 ● "Горький"
Интервью с авторами книги «Страдающее Средневековье»: Часть первая
«Страдающее Средневековье» — популярный паблик с мемами по мотивам визуальной культуры Средних веков. На днях в издательстве «АСТ» вышла книга «Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии».
«Страдающее Средневековье» — популярный паблик с мемами по мотивам визуальной культуры Средних веков. На днях в издательстве «АСТ» вышла книга «Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии».
По просьбе «Горького» Сергей Сдобнов поговорил с авторами книги. Мы публикуем первую часть интервью — беседу с историком и переводчиком Михаилом Майзульсом.
После прочтения вашей книги сразу думаешь: в Средние века всё было не так, как нас учили в школе. Вот у вас на обложке у Христа три носа, рта и четыре глаза, почему четыре?
Потому что это не Христос, а вся Троица. В христианской иконографии догмат о Троице был одной из главных «площадок» для визуальных поисков и даже экспериментов. Как изобразить бога единого, но троичного, три ипостаси раздельные, но неслиянные? Одно из возможных решений, которое стало особенно популярно к позднему Средневековью, — это показать триединое божество как человека с тремя сросшимися лицами на одной голове. В одних вариантах у него было четыре, в других — два глаза. Это гибридное создание позволяло явить единство в троичности и троичность в единстве. Однако в Новое время католические богословы и папы решили, что Святая Троица не должна изображаться как монстр и не может напоминать дьявола, которого тоже часто представляли трехликим. Так что в книге о парадоксах средневековой иконографии этот изобретательный и при том спорный образ просто просится на обложку.
Миша, несколько лет назад ты с Дмитрием Антоновым опубликовал «Анатомию ада» — справочник о загробном существовании русского человека. Расскажи, как работать над non-fiction книгой вдвоем, а в случае «Страдающего Средневековья» — втроем?
Соавторство — штука тонкая, но для меня это удачный опыт. Наверное, для соавторства художественный текст намного сложнее. Научные или научно-популярные нарративы все-таки больше развернуты не к субъективности автора, а к миру вокруг. Они меньше зависимы от индивидуального стиля. Потому и взаимодействие отладить проще. Но все равно здесь нужно как-то договориться о том, как облекать мысль в слова, сколь повествование должно быть плотным, будем ли мы как-то обращаться к читателю или нет и прочее. И с «Анатомией ада», и со «Страдающим Средневековьем» мы с этой задачей справились. Но ни вдвоем, ни тем более втроем мы, конечно же, не писали — за одной клавиатурой много не сочинишь. Каждый делал свои главы, а потом остальные их вычитывали, критиковали, дополняли, где-то переписывали. И порой это, видимо, было болезненно. Чем больше соавторов, тем важнее, чтобы у текста был один редактор, который волевым усилием приведет его к общему знаменателю. Удачное соавторство — это все-таки синтез компромисса с авторитарностью.
Расскажите о нейминге глав, как появились такие удачные названия, как «Фаллос, который гуляет сам по себе»?
Я люблю игру слов и каламбуры. Понятно, что сегодня читатель ими уже пресыщен — в прессе это вообще поветрие, — и часто из названия статьи нельзя понять ничего, кроме того, что редактор остр на язык. Но мы все-таки писали не монографию «Новые замечания о некоторых аспектах в изучении иконографических типов св. Элигия в графстве Фуа (1300–1325)», а научно-популярный текст. И потому хотелось, чтобы заголовки одновременно разъясняли суть дела и манили, тем более что книга рассказывает о средневековой пародии и визуальных парадоксах. Тут важно быть на уровне материала или хотя бы пытаться. Я вообще с радостью сделал бы книжку-стилизацию: серьезный научный текст, но оформленный в средневековом духе. Названия глав в стиле «Слово о гибридах, об их частях и о резонах оных», примечания на широких полях, рисунки-маргиналии, пространство, на котором бы сам читатель мог что-то дописать или дорисовать.
Художники в разные периоды пытались осовременить религиозные образы: в средние века античные персонажи напоминали средневековых рыцарей, между Первой и Второй мировой войной Христа изобразили в сапогах и противогазе. Нужно ли такое осовременивание сегодня?
О том, нужно или нет, судить не мне. Как в Средневековье, так и сейчас, осовременивание приближает прошлое к зрителю и усиливает его эмоциональный отклик, помогает ему самоидентифицироваться с увиденным или услышанным. Сегодня это чаще касается не сакральных, а вполне светских, литературных, сюжетов. Однако средневековый презентизм [концепция, историк отражает современную ему идеологию], согласно которому древние римляне как рыцари в латах, Иерусалим как североевропейский городок с черепичными крышами и Христос в противогазе, которого в 1927 году нарисовал Георг Гросс — это немного разные вещи. Средневековые мастера и их заказчики действительно не знали, как были экипированы римские легионеры и как выглядел Иерусалим I в. н. э. И для них это было неважно. Изображая сакральное прошлое почти как настоящее, они приближали его к зрителю (молящемуся) и напоминали верующим о том, что их грехи продолжают распинать Христа здесь и сейчас.
В случае картины Гросса перед нами строго полемический прием: художник изобразил Христа в сапогах и с противогазом, тем самым он создает аллегорию обескровленного человечества и обличает проповедь войны, несовместимую с христианством. Для него Христос на кресте — это символ страдания, но это не религиозный образ. Он использует всем известный христианский символ, но придает ему другой (нецерковный, а порой и антицерковный) смысл — церкви, которые гонят людей на бойню, тоже предали своего Бога. И конечно, ни он, ни те зрители, которые в Веймарской Германии видели его рисунок, не подразумевали, что Христа некогда действительно распяли в противогазе. На средневековых изображениях многие осовременивающие элементы, видимо, воспринимались буквально.
В сегодняшней России такие визуальные эксперименты — даже если в них нет антирелигиозного посыла, — увы, рискуют попасть под каток защиты чувств верующих. Любой отрыв от привычно-благолепного «канона» многими воспринимается как святотатство. И государство силами прокуратур и судов поддерживает тренд на то, чтобы огородить сакральные образы не то что от физического поругания, что правильно, но и от иронического переосмысления или от переосмысления вообще, что абсурдно.
Если далеко не ходить, это хорошо видно по решению суда и по недавнему ответу Минюста в ЕСПЧ по поводу одной картинки Александра Савко, которую демонстрировали на выставке «Запретное искусство 2006». Он взял гравюру немецкого художника-лютеранина Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда (1794–1872) с изображением Нагорной проповеди и заменил голову Христа на голову Микки Мауса. Можно как угодно относиться к таким работам, видеть в них иронический комментарий на тему общества потребления (Микки-Бог) или бессмысленное дурновкусье. Каждый волен судить. Но суд попросту признал эту работу экстремистской. А Минюст в своей аргументации процитировал экспертное заключение о том, что «любое сознательное искажение религиозной символики носит оскорбительный характер». Получается, что «канон», действующий внутри церковной традиции, должен быть обязателен и вне ее, что любое переосмысление сакральных сюжетов, на самом деле не принадлежащих ни одной церкви и ни одной группе верующих, легко объявляется святотатством и экстремизмом. У нас Георга Гросса явно бы осудили. Антивоенная проповедь с помощью «искаженных» христианских символов не прошла бы.
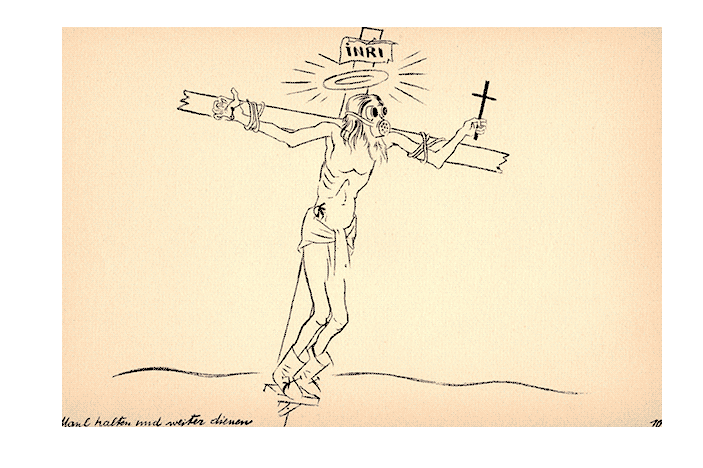
Георг Гросс. Карикатура «Христос в противогазе», 1927 год
Фото: 50watt.com
Чем ближе к нашим дням, тем сложнее реакция Церкви на интерпретацию религиозных образов. Что на это повлияло кроме Реформации?
Мы сейчас говорим только о Католической церкви. Протестантов и весь православный мир временно выносим за скобки. И к одной тенденции (в духе того, что, чем ближе к нашим дням, тем сложнее реакция церковных властей на иконографические вольности) эту историю все-таки не сведешь. На переходе от Средних веков к Новому времени в церковной иконографии столкнулось несколько противоположных течений. С одной стороны, Реформация — вернее, стремление Рима дать ей отпор и выкорчевать все нестандартные формы религиозности — спровоцировала ужесточение церковного контроля над визуальным и над печатным станком. С другой — к XVI–XVII векам христианские сюжеты и церковные заказы (на них в Средневековье приходилась львиная доля всех создававшихся изображений) превратились из центра системы в один из ее элементов. В архипелаге искусств появилось множество светских жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, баталии, античная мифология, бытовые сценки из современной жизни и другие. Какие-то из них только возникли, иные существовали и раньше, но теперь обособились от церковных контекстов и вышли на первый план.
Немецкий историк Ханс Бельтинг назвал этот сдвиг переходом от «эпохи образа» к «эпохе искусства». Под «образом» он понимал прежде всего церковный образ, который выполнял конкретную религиозную функцию: требовался для богослужения, предназначался для частной молитвы и т. д. А потом, на стыке Средних веков и Нового времени, возникает представление об искусстве как о самостоятельном пространстве и о произведении, которое решает в первую очередь эстетические задачи и не обязано быть функциональным. Само собой, схему Бельтинга не следует толковать слишком догматично. В «эпоху образа» не все изображения были религиозными: достаточно вспомнить охотничьи сцены, которыми украшали стены замков, или куртуазные сюжеты, которые можно встретить на миниатюрах рукописей или на гобеленах. И хотя большинство средневековых изображений выполняло какую-то религиозную, политическую, мемориальную или магическую функцию, той эпохе тоже была нечужда мысль о самоценности эстетического совершенства. А в «эпоху искусства» до сих пор жив религиозный образ вполне средневекового типа.
Но важно, что в XVI–XVII веках культовый образ, над которым Католическая церковь стремится установить более жесткий контроль, вынужден потесниться. Визуальная цензура становится интенсивнее, но ее охват сужается, потому что на религиозное искусство и на религиозное сознание в целом начинает наступать секулярная культура. Появляются новые, религиозно-светские, формы. Взять, к примеру, картину, на которой запечатлен какой-то ветхозаветный или новозаветный сюжет. Это ведь уже не алтарный и не моленный образ, а историческое полотно на библейскую тему. Оно может быть проникнуто христианским духом, но часто создается не для храма и не для молитвы, а для украшения интерьера или для благочестивых размышлений о вечных истинах. И в этом пространстве церковный контроль, понятно, сходит на нет.
В книге цитируются труды христианских мыслителей — Кальвина, Лютера, — а как иностранцы воспринимали религиозные символы Европы?
Все зависит от того, кого мы имеем в виду под «иностранцами». Можно задуматься о том, как, скажем, датчане воспринимали итальянские образы, но интереснее взглянуть на более радикальные случаи. Почти единственные нехристиане, кто в Средневековье и ранее Новое время бывал или жил в католической, а потом и в протестантской, Европе — это мусульмане (от мусульманских подданных испанских монархов до послов от владык с Востока) и иудеи (главные внутренние чужаки христианского мира). И для тех, и для других католическое искусство — с его бесконечными изображениями Бога, Девы Марии, святых, ангелов и, главное, со всевозможными практиками почитания этих образов — казалось воплощением идолопоклонства.
У нас есть и реальные свидетельства иудеев, упоминавших католических «истуканов», и христианские полемические трактаты, где в уста иудеев, которые, по законам жанра, в конце концов признают свое поражение, вкладываются аргументы против христианского культа. И наряду с общими местами и обличениями в этих текстах можно встретить и краткие описания конкретных изображений. В небольшом латинском сочинении, которое приписывается Герману, иудею, жившему в XII в. на северо-западе Германии, можно прочесть, как он в Мюнстерском соборе увидел «монструозного идола» — распятие. Текст был посвящен тому, как он в итоге крестился и отверг свои прежние заблуждения, в том числе и по поводу христианских «идолов».
Есть еще один ценный источник — это инквизиционные дела по поводу (реального или мнимого) святотатства, совершенного иудеями, мусульманами или «новыми христианами» из иудеев и мусульман. Последним в Испании раннего Нового времени приходилось особо рьяно демонстрировать почтение к христианским образам, потому что их все время — порой небезосновательно — подозревали в том, что на самом деле они хранят верность религии предков и в душе продолжают считать распятия и статуи святых идолами. Еще одна категория иноземцев, которые со стороны описывали католическое средневековое искусство, — это восточные христиане: например, русские послы, бывавшие в Европе. В 1437–1440-е годы в Италию на Ферраро-Флорентийский собор — для обсуждения унии православной и католической церквей — прибыла русская делегация во главе с митрополитом Исидором. В ее составе был неизвестный суздалец, который, помимо прочих городов и памятников, оставил описание флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре и его знаменитой колокольни (кампанилы Джотто): «И есть в том граде храм великий, построенный из белого и черного мрамора; а около того храма воздвигнута колокольня также из белого мрамора, и искусности, с которой она построена, наш ум неспособен постигнуть; и поднимались мы на ту колокольню по лестнице, насчитав четыреста пятьдесят ступеней».
Он также описал восковые фигуры (ex-voto), которые в Италии по обету приносили святым, чтобы их о чем-то попросить или поблагодарить за помощь: «И есть в том городе икона чудотворная, образ пречистой Божией Матери; и перед иконой в храме находится шесть тысяч сделанных из воска изображений исцеленных людей: кто разбит параличом, или слепой, или хромой, или без рук, или знатный человек на коне приехал, — так изображенные, стоят они, как живые; или кто стар, или юн, или женщина, или девица, или отрок, и какая одежда на нем была или каким недугом страдал, и как исцелен был, или какая рана у него, — так все это и изображено и стоит там». В таких свидетельствах самое интересное — это не документальная точность, а эмоции, реакция на культурно чуждое, слова, которые используются, чтобы описать и осмыслить незнакомое.
Продолжение следует