«Бродский нас совершенно задурил своими стихами»
21 сентября 2019 ● "Горький"
Беседа Юрия Левинга с переводчиком и радиожурналистом Ефимом Славинским.
Славинский и Бродский в Лондоне. Октябрь 1987.
Фото: предоставлено Юрием Левингом
О поэзии, джазе и римских прогулках с Иосифом Бродским: публикуем беседу Юрия Левинга с переводчиком и радиожурналистом Ефимом (Славой) Михайловичем Славинским (1936–2019).
Ленинградская молодость
— Как вы познакомились с Бродским?
— У нас очень давние отношения — мы познакомились в 1960 году. Виделись нечасто, но постоянно. Перед самым его отъездом не виделись. Я тогда жил в основном в Питере. Бродский уникальный в этом смысле человек, у него было 500 друзей, и я в том числе. До того, как он познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, одним его из ближайших друзей был Гарик Гинзбург-Восков. Есть его абсолютно пресные воспоминания о раннем Бродском. Сам по себе он интересный человек.
Иосиф пришел как-то на Благодатный [конечная трамвайная станция «Благодатный переулок» в районе Московского проспекта в Ленинграде. — Прим. Ю.Л.]. Как получился Благодатный? Леня Ентин женился на Элле [Липпе], а я на Гале, и мы искали жилье. Нам удалось снять две комнаты из трех в квартире, принадлежавшей полковнику, который уехал на все лето. Вот у нас на все лето образовалась пустая квартира. Тогда жилищные условия у всех были чудовищные, поэтому некоторые к нам приходили просто принять ванну. Леня Ентин приволок однажды туда Бродского, который всем понравился. Молодой, здоровый, рыжий, он приехал на велосипеде в дырявом спортивном трико. Он моментально стал читать стихи. Тогда все читали стихи. Конец 1950-х — это исключительно стихи. Окуджава и барды были позже.
— Какое впечатление тогда на вас произвела его поэзия?
— Бродский нас совершенно задурил своими стихами. Я его познакомил с Рейном. Мы тогда любили раннего Пастернака, образцом для нас был ранний Тихонов, несколько стихотворений Луговского 1920-х — 1930-х годов, многие любили Багрицкого, но я его терпеть не мог. Заболоцкого любили, но не на Благодатном. Слуцкий повлиял на Бродского тоже.
У меня гипотеза такая, что если бы Бродский вовремя, в двадцать лет, не познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, то не было такого Бродского, которого мы знаем. Они к тому времени состоялись как поэты, а он пришел зелененький. Он писал тогда под Пабло Неруду. Они развивались до конца 1970-х, а он только начал разворачиваться. Вот если бы он познакомился тогда не с ними, а с Евтушенко, например? Это был бы другой человек. Кто в то время играл такую же роль, как Рейн? Он же уникален. О себе он написал, что он выучил писать стихи двенадцать человек. У него есть стихи на эту тему: «Выучил дюжину учеников — шесть негодяев, шесть мучеников».
— Почему Бродский называл вас Юхим?
— Он меня так называл, имея в виду мое украинское происхождение. Я тоже называл его Джозеф. В январе 1975 года, когда мы встретились в Риме, он подарил мне подборку стихов с замечательной надписью на рукописи «Торса»: «Ефиму, to the only reader West of Berlin» («Единственному моему читателю к западу от Берлина»). Это в каком-то смысле правда.
— Поясните, что Бродский имел в виду?
— Я один из первых его понимающих слушателей. Помните, Рейн описывает это...
— Он пишет, что вы их познакомили с Бродским в 1959 году.
— Только в 1960 году. Рейн врет, как дышит.
— В «полутора комнатах» приходилось бывать часто?
— Раза три. Последний раз — за шесть дней до моего ареста, когда Иосиф праздновал день рождения, и там было человек тридцать. Меня арестовали 29 мая.
В 1971 году в Новокузнецке я получил целый месяц отпуска и побывал и в Москве, и в Питере, где ломанулся к Бродскому. Мне открыл его отец, не узнал меня, но впустил к больному Иосифу. Там лежал Бродский — бледный, как смерть: то ли простуда, то ли сердце, и сказал мне, что написал стихи. Он их прочел мне вот таким мертвым голосом. Это были стихи «Натюрморт». Я тогда долго не стал сидеть, у него уже была одышка в тридцать лет. Так плохо он никогда не выглядел ни до, ни после.
— Расскажите про свою судимость.
— В зоне я был всего девять месяцев, а потом досиживал срок «на химии». Меня послали в Новокузнецк на стройку бетонщиком.
— Ваше дело ведь было сфабрикованное?
— Если бы не политика... Вообще, да, сфабрикованное. [Константину] Азадовскому подкинули, потому что он был знаком со мной. Таких курильщиков, как я, полгорода. Их всех сажать, что ли? У меня не был доказан факт сбыта, я только покурить давал кому-то. Но судья решил, что в данном случае это можно приравнять к факту сбыта.
— У вас нашли запрещенную литературу?
— Я как чувствовал и самое страшное спрятал. У меня были хроники Горбаневской [редактор самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий» в 1968 г. — Прим. Ю.Л.]. Нашли только Мандельштама. Если бы меня посадили за самиздат, то не выпустили бы досрочно. Я освободился в самом начале 1972 года.
Встречи с Бродским в Риме
— Сколько вы времени находились в столице Италии?
— Я приехал в сентябре 1974-го, а улетел в Лондон 16 января 1976 года. Я снимал комнату, подрабатывал в ХИАСе, получал пособие — в общем, кайфовал. Я жил на Пьяцца Фьюме, в одном квартале от Порто Пиа.
В 1975 году Анна Донни, которая живет в Риме, повезла меня к своим родственникам на Новый год под Венецию, потом я вернулся третьего числа где-то, и тут звонок — Бродский. Оказывается, он тоже был в Венеции и сейчас в Риме. Мы встретились, стоял пасмурный день. В первый же день нашей встречи мы пошли гулять на Форум, там он сделал несколько неудачных моих снимков. Вообще, в 1975 году мы несколько раз встречались в Италии, он всегда туда ехал, как только у него появлялись деньги.

Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. Бродского
Предоставлено Юрием Левингом
Свое пребывание в Риме он воспринимал через фразу Гете «Остановись, мгновение, ты прекрасно». При этом Гете он не читал, но вот это ощущение есть в его римских стихах: в стихотворении «Пьяцца Маттеи» прямо целиком приведена эта фраза. Бродский подарил мне тогда подборку своих стихов, которые я потом взял и передарил Ромасу Катилюсу в Вильнюсе.
Я в Москву отправил подруге открытку 5 января 1975 года, поэтому помню точно дату, когда мы увиделись с Бродским. Прочту вам отрывок:
«Буду в Риме еще месяца три. Жду вестей от Шуры. А вчера утром вдруг звонит Иосиф —»Юхим, я в Риме". Мы не виделись три года и вот гуляем, выпиваем и треплемся. Он в полном порядке. Сегодня видели папульку (Римского), издали. Он произносил речь. Сказал, что все будет в порядке.
Потом пили какао в знаменитом Café Greco. Там бывали все знаменитости, ну, и мы решили побывать. Сидели под портретом Гоголя. Потом поднялись по Испанской лестнице и пошли к Villa Medici, и я заметил, что у Иосифа одышка.
У меня одышки нет, но все хуево с бронхами. Впрочем, я думаю, что все будет в порядке. Почему не пишешь? Что-нибудь не в порядке? Этот колдуэлловский идиотизм [Эрскин Колдуэлл — американский прозаик, популярный в СССР в 1940-60-е гг. — прим. Ю.Л.] на меня нагнал Иосиф своими рассказами об Америке. Говорит, там все в порядке. А их президент знаешь, почему лысый? Много играл в бейсбол без шлема, перепадало ему мячиком. Прощай, старушка. Пиши почаще. Твой Е.С.«
Мы сидим в «Кафе Греко», у него с собой была его только что вышедшая по-английски книжка в переводах Джорджа Кляйна с портретом на суперобложке. Я в какой-то момент говорю официанту: «Со мной сидит знаменитый русский поэт, поэтому принесите нам книгу почетных посетителей». Он на нас посмотрел скептически, сидят какие-то два хмыря, но принес нам толстенную книгу — такой гроссбух, и Бродский там расписался. Это было 3 или 4 января 1975 года [правильная дата — 9 января — прим. Ю.Л.]. Были встречи и после.
— А вы фотографировали его?
— Нет, я снимать не умею, я технический идиот. А Бродский — сын фотографа.
Потом, в конце 1975 — начале 1976 года я заходил к нему в отель на Пьяцца Минерва, где он жил на самом верхнем этаже. Мы пошли гулять на Испанскую лестницу, Пинчо и Trinita dei Monti. «Остановись мгновение» — это был лейтмотив Рима для нас обоих. Так вот, он мне подарил свою подборку, которая открывается этим гениальным стихотворением «Торс».
— Он вам отдал рукопись?
— Нет, это была машинописная подборка, которую я подарил Катилюсу. Я Рим знал не хуже Иосифа. Знаете, в Италии есть столовые самообслуживания? Мы там обедали, потом где-то с Анной, у Сильваны де Видович. Сильвана (Сизи) не принадлежала к ближайшему кругу людей Бродского, из него я знаю только Джованни Буттафаву. С Сильваной я был знаком еще с 1967 года, и когда я оказался в Риме, она сама вышла на меня. А кто был в круге ближайших его друзей, я не знаю. Он умел дружить со всеми по отдельности и с каждым, как с самым близким другом.
— А вы писали стихи?
— Нет, у меня нет воображения. Он меня ценил как знатока поэзии. Рейн говорит, что он учитель Бродского. И это абсолютная правда. Рейн и меня научил воспринимать стихи. Мы с ним познакомились в 1958 году.
— Вернемся в 1975 год и к вашим встречам с Бродским в Риме. Как Иосиф начинал читать стихи?
— Это происходило мгновенно, его не надо было долго просить.
— Реагировали ли на это прохожие?
— В Риме за 3000 лет столько всего было, что, скорее, нет. Когда я жил в Италии, вышел роман итальянского писателя о том, как вдруг в Риме оказывается марсианин и становится фигурой дня в городе, а через месяц он уже всем надоедает. Мы говорили обо всем, виделись в этом году еще раз пять.

Славинский. Рим. 1975
Предоставлено Юрием Левингом
— Вы упоминаете о своем и ваших приятелей увлечении модернистским джазом и западным ширпотребом.
— Мы все сидели на этом джазе. Что произошло с СССР? Нас закидали джинсами по аналогии с выражением «закидать шапками». Советский Союз погиб, потому что не умел производить джинсы. А мы все торчали на этом джазе. Главным теоретиком и пропагандистом джаза у нас был Фима Барбан. Он живет в Лондоне сейчас. Он был моим гуру с 1955 по 1958 годы. Нас пленяли классический джаз и диксиленд, Армстронг, Рой Элдридж, Джони Ходжес. Основным открытием для меня стал Билборд, которого для меня открыл Барбан. Чарли Паркер, Монк, Дэвис — вся эта компания. Вы знаете, кто такой Уиллис Коновер? Есть три знаменитых американца на весь Союз — Джек Лондон, Кеннеди и Уиллис Коновер. Последний — это диджей джазовой передачи «Голоса Америки». Юрий Ермолов вам лучше расскажет об этом времени.
По поводу западного ширпотреба есть замечательное эссе Бродского под названием «Трофейное», и там все описано. Описано, как мы торчали на этом. Если уж вспоминать о подарках, то как не вспомнить, что в нашу первую встречу в Риме (начало января 1975-го) он подарил мне чудный свитер тонкой вязки, бутылочного цвета, который только что купил в Венеции, но ему оказался маловат... И тогда же — машинописную подборку своих последних стихов, с уже упомянутым дарственным инскриптом «Ту зэ оунли ридер уэст ов Берлин»...
— Бродский тогда тоже подсел на джаз?
— Об этом свидетельствует поэма «Шествие», которая ходила по рукам в конце 1960-х, она была огромной (Бродский вообще был необычайно производительным). В моей самиздатской копии «Шествие» состоит из двух частей, а между первой и второй частью там было написано: «Конец первой части. Следует десятиминутный джазовый проигрыш. Выходят и играют...». Дальше он перечисляет как минимум полтора десятка джазовых, в основном авангардных, музыкантов. Это были наши любимцы — я запомнил некоторые имена: Луи Армстронг, Рой Элдридж, Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган, Дэйв Брубек, Телониус Монк, Кэннонбол Эдерли, Джон Колтрейн... Вставка с перечисления великих джазменов между первой и второй частью «Шествия» была в самиздатских экземплярах — что оная таки существовала, может подтвердить выдающийся питерский литературовед Татьяна Никольская, «Шествие» я читал именно с ее машинки.
— Музыка влияла на поэзию Бродского?
— Конечно. Я помню, что в 1960-е, когда мы виделись до его посадки, он торчал на джазе и русской поэзии. Смешно сказать, что Бродский в 1959—1960-х подражал Янису Рицосу, Георгию Сиферису, Пабло Неруде. Эти дурацкие образы гладиаторов, черепа и еврейского кладбища.
— Кстати, вы видели книгу «Музыкальный мир Бродского»?
— Нет. Все упоминают о Перселе, «Дидона и Эней». Это чистая случайность. К Найману приехала одна английская аспирантка и привезла эту пластинку. Ахматова ее прослушала и заахала, она ж сама себя сравнивала с Дидоной. Отчасти это же история о ней и об Исайе Берлине. Почему он, гад, не женился и не увез ее?
Празднование нового года с Бродским в Риме
Так случилось, что в конце декабря 1975 года у Сильваны пустовала квартира, и она отдала мне ключ, чтобы мы смогли отпраздновать там Новый год. На этой вечеринке, кроме Нэнси, была еще Клавдия Яковлевна Славинская, которая приготовила нам котлеты, Нина и Никита Ставиские. Они долгое время жили в Лондоне — Нина работала на ВВС, потом они попали в США, работали в школе языков, потом перебрались в Лондон. Никита умер в 2007 году, а Нина уехала в Израиль.
— Они знали Иосифа и раньше?
— Это был его круг общения. У меня есть в расширенном виде отрывок, который я привел из письма Людмилы Штерн. Это из письма Мише Мейлаху: «При первой же встрече с Иосифом я ущипнул его вопросом о тебе: „Что же ты, гад, лажаешь Мейлаха по своим салонам? Ты же знаешь, что он светский человек, и это может ему навредить?..“ и т.д., на что он ажно закручинился, запрокинул головушку и молвить изволил: „Да *** [чего. — Прим. ред.] ты мне: Мейлах, Мейлах! Что он, стеклянный, что ли? Что о ком хочу, то о том и говорю, и пошли вы все...“. И я подумал: действительно, Пьяцца дель Пополо, солнышко зимнее пригревает, красотища кругом и такая встреча, *** [чего. — Прим. ред.] там разбираться, действительно. Короче, надо немедленно поддать, что мы и сделали, и пошли по Малому Кругу, то есть не отходя далеко от Тибра. У каждого из нас в Риме есть „свои места“, и соответствующие поливы и пластинки. Вообще, в Риме с Иосифом было интересно, он там всегда был расслаблен и доволен. Написал чудный свой „Торс“, читал, гнусавя, под пиниями Виллы Боргезе, — большой кайф... В Новый год мы с ним и Никитой Стависким пели польские песни. Это оказалось единственное общее хобби троих, в общем-то, чужих людей. Перекидывались мелкими сплетнями и налегали на бренди. Тетка моя приготовила аидише котлеты с луком. Нэнси быстро вырубилась и уснула прямо на ковре, и от ее босых ступней шел пар почему-то. Еще были Нина и Анна. На квартире Сизи [де Видович], среди ковриков и советских и маоистских плакатов». Никита Ставиский учился на историческом факультете и специализировался по Польше, Бродский всегда любил Польшу с моей подачи, а я известный полонофил.
Вот еще одна цитата из письма Людмилы Штерн:
«Вечером был на лекции Иосифа в School of Slavonic Studies. Он прочел на беглом и точном английском толковое эссе „Писатель и язык“ (потом я выяснил, что и намахал он его прямо по-аглицки за четыре ночи. Вот молодец!), Ляля [Майерс] разносила чай и шерри, Джозеф отвечал на вопросы (будучи, как обычно, мил с полузнакомыми, а вообще-то, он все такой же хам). А потом Алик Берг повел нас семерых в какой-то особенный индийский ресторан, невзирая на мои протесты — индийская кухня совершенно несовместима с моим еврейским желудком, способным переваривать гвозди. Тут возникли какие-то напряги — Алик и [Зиновий] Зиник свалили, и вечер закончился самым скучным образом у Машки [Слоним]. Джо сперва рыпался, что мы все какие-то сонные, ему хотелось действия, мол, вот у нас, в Америке... „Ну, да, — начали дорываться мы, — это молодая динамичная страна, размах и энергия, нью фронтир“. „Нет, — сказал он, — просто перемена ритма“. Он сейчас в Кембридже. И стишки почитал — один другого лучше, длинные, напористые, чисто описательного, любовательного свойства, все как один. В этот вечер он опять мне понравился, как это было в Риме. Потому что наши предыдущие лондонские встречи совершенно не удавались. Не те обстоятельства, он капризуля, а вот он среди людей, видящих его насквозь, любящих — но на мякине их не проведешь — тогда он ручной. В эссе он назвал себя „тем из русских авторов, на кого наибольшее влияние оказала англо-американская поэзия“, — наибольшее по сравнению с другими авторами. Это не комплимент хозяевам: в английском цикле и в „Колыбельной трескового мыса“ влияние это уже видно и подчеркнуто».
Это циркулярное письмо, я его разослал нескольким людям. Это конец 1979 года. Письмо Мейлаху про Новый год — это ноябрь или декабрь 1979 года. Мейлаху я писал в СССР. Это было после моего единственного визита в США, где я видел его сестру Мирру и зятя Генриха Орлова. В течение 1975 года я от него получил три письма.
Другое письмо мне в Лондон: «Это письмецо не столько для тебя, сколько для Машки, с которой мы проблему нижеследующую уже обсуждали в столице французской республики. Она знает, о ком речь. Так вот, чувак скоро окажется в Риме, и если все пойдет нормально, и я думаю, что его было бы хорошо попробовать устроить к вам [на ВВС], — хотя бы из соображений чистого воздуха. Посему, не отпишешь ли мне, какова процедура и ее стадии — с тем, чтоб я его мог вовремя информировать и избавить от всяких там накладок и траты времени. Сие есть первое. Второе — насчет того же самого, но кадров, уже пребывающих тут. М. говорила про какие-то там аппликации, т.е. анкеты и запись голоса и проч. Можно ли все эти дела переслать сюда или следует рыть землю на месте — и тогда квэсчен: где? Бродский, 309 Уэсли стрит, Энн Арбор, Мичиган, 48104, USA».
Еще один вечер в Риме вспоминается. Мы далеко за полночь пьем кофе, разбавляя его виски в баре у Термини. Иосиф расстегивает рубашку и показывает довольно свежий шрам от операции на открытом сердце. Я думаю, что это возле первой операции было. Я ему тогда сказал: «Тянет на Нобеля». Это тогда он мне подарил свитер.
Рим для Бродского был просто кайфом, особенно после питерской погоды. Когда я попал в Рим, то поверил в переселение душ и понял, кем я был в прошлой жизни — я был ягненком, пасся на холмах в XVIII веке, меня зарезали и подали на обед какому-то кардиналу. Поскольку я провел невинную жизнь, то возродился в следующий раз уже в более высокой инкарнации — в человеческой. Я понял, что я здесь был. Но, будучи человеком, я столько нагрешил, что, наверное, в следующей жизни я буду тараканом.

Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. Бродского
Предоставлено Юрием Левингом
— Вы такое не говорили Иосифу? Вы об этом в итальянских забегаловках обсуждали?
— Этого я не помню. Кстати, я помню, что мы заказывали из итальянской кухни — это была фасоль. Мы оба ее любили. Бродский не говорил по-итальянски и не хотел быть похожим на итальянца.
— Не чурался ли бывших соотечественников при встречах с ними в Италии?
— Нет.
— Посещали ли вы вместе музеи в Риме?
— Нет, но мы ходили на вершину Авентина, где есть закрытый сад, в воротах которого зияет дыра, поглядев в которую, человек видит аллею деревьев, в конце которой, как на картинке, виднеется купол Святого Петра. Сан Пьетро — это известная достопримечательность.
— Иосиф был фланером?
— Да, как и я, с нотами поведения типичного туриста. Мы кайфовали.
— Комментировал увиденные красоты?
— Мы торчали от всего.
— Как вы относитесь к его Римским стихам?
— «Виа Джулия» — ничего. «Пьяцца Маттеи» — местами гениальные, но испорченные похабенью. «Я ставил Микелину раком» — так нельзя делать.
Подборка стихов, которую он мне подарил при встрече в 1975 году, состояла из десяти стихотворений. Первое стихотворение было «Торс»:
Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг...
А «Вертумн», посвященное Джанни Буттафава, я так и не прочел — это длинное и занудное стихотворение. У Бродского много воды в стихах.
— Знакомил ли Бродский вас с его римскими друзьями?
— С Сильваной я был знаком и без него, а вот с Буттафавой я познакомился с его подачи.
— Известно ли вам о том, что он делал в свободное время?
— Кого он трахал? Понятия не имею...
Мы подбираемся к концу 1975 года, когда он появился в Риме опять. Иосиф привел меня к двум своим бывшим студентам-американцам Арнольду и Джоан. Мы пришли к ним на квартиру, целый вечер сидели, галдели. Им было просто приятно, что появился еще один человек, который прилично говорил по-английски. Квартира была в районе Виа Кондотте.
— Вы упомянули, что вместе с Иосифом видели Папу Римского.
— Папульку видели, я не помню, кто тогда был. Он вещал с балкончика. Иосиф его называл «папулькой».
Однажды в Риме, в начале 1980-х, мы виделись по крайней мере два раза: первый — когда он мне шрам показывал, а второй — в июне 1981-го, когда его пригласила Американская академия читать стихи. Я был на этом мероприятии. Я приехал тогда в Рим к Славику и Лоре Паперно. Я случайно узнал, что Иосиф выступает в Американской академии, и мы рванули туда. Он тогда любовно на нас посмотрел, мы потрепались и разбежались. Были встречи и после Рима.
— Был ли Бродский щедрым?
— Он был щедрым со всеми. Мне Найман рассказывал, как они встретились в Венеции, и он его повел в самый шикарный бар в мире. И тут какие-то итальянские знакомые появились, которых он тоже стал угощать шампанским. Безумные какие-то поступки.
— Он как-то менялся за эти годы?
— Последний раз я его видел в 1991 году. Нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями, но мы знакомы с 1960 года. У нас были общие хобби — русская поэзия, американский джаз, Польша. Нам нравились два фильма Вайды — «Канал» и «Пепел и алмаз». В Риме он мне говорил, что из стран, изначально принадлежащих белому человеку, самая замечательная — это Ирландия. Он там бывал, рассказывал, какие там люди живут замечательные. Ему очень нравился Дублин. Это у меня есть в письме Людмиле Штерн. Есть избранные страны, на которых он кайф ловил — Мексика, Ирландия, Италия, Польша, Венеция отдельно. Про Польшу у него нет стихов, но мы говорили о ней. Мы шутили, что это самый веселый барак в соцлагере. Он по-польски мог читать, он перевел Галчинского, Тувима переводил.
Как-то мы навещали в Риме поэтессу по имени Эва Брудне, которая жила у Люси Торн. Она нас угостила обедом, и Иосифу пришлось послушать ее стишки в виде платы за обед. Она была счастлива. Она была в Риме в 1975 году проездом, сейчас она живет в Австралии.
Я обожаю его стихотворение «Представление». Оно существовало в нескольких вариантах. Тот вариант, который я получил, был сокращенным, а полный уже опубликовали в «Континенте». Мои любимые его стихи — это «Колыбельная Трескового мыса». Это самые американские его стихи.
— В Йельском архиве отложилась сделанная вами в Риме фотография Бродского рядом с благородно одетой пожилой дамой. Они стоят у статуи волчицы, кормящей Рема и Ромула. С вашей помощью мне удалось идентифицировать женщину — Раису Берг.
— На снимке таки да, Раиса Львовна Берг, она довольно долго проторчала в Риме по пути в Америку, это 1975 год. Она была выдающийся биолог и покровительница диссидентов и богемы. См. ее книгу «Суховей». С Иосифом они были знакомы с начала шестидесятых годов, он у нее на квартире читывал стишки. Про Р.Л. можно узнать в Википедии и в массе других источников. Люда Штерн, по-моему, тоже была с ней знакома, ее семья обреталась в том же 1975-м году в Риме.
Как-то мы с Раисой Львовной Берг и Иосифом пошли пить пиво к фонтану Треви в знаменитое кафе. Там было зеркало за баром во всю стену, и я увидел в него, как Бродский смотрит на нас с Раисой Львовной с нежностью. Странно, что у нас с Бродским нет ни одного совместного снимка [в Италии].

Е. Славинский и Р. Л. Берг на площади Кампидолио у памятника Марку Аврелию. Январь 1975. Фото И. Бродского
Предоставлено Юрием Левингом
Раиса Львовна потом работала в Мэдисоне, позже перебралась в какой-то биологический институт в Париже. Она знаменитый генетик. У нее в Советском Союзе был всегда открытый для нас дом, хотя она ютилась в двух комнатах коммунальной квартиры. Жила она с двумя дочками — Лизой и Машей. Раиса Львовна — дочка академика Берга. Во Франции живут дочь и бывший ученик и сотрудник Раисы Львовны.
— Осенью 1962 года Бродский жил на даче академика Берга в Комарово вместе с художником Яшей Виньковецким.
— Одна из самых замечательных страниц моей римской жизни связана с Яшей Виньковецким. С ним было потрясающе ходить по Риму, потому что он ходячая энциклопедия. Мы с ним и его женой Диной были в 1962 году в экспедиции в центральном Казахстане. Яша был знаком с Иосифом по Ленинграду. Отрывок в письме Мейлаху 1979 года про Яшу: «...В Риме было уютно, и шел плотный поток друзей, знакомых и полузнакомых. Например, Яша Виньковецкий так обалдел от Италии, что правдами и неправдами растянул римские каникулы на полгода. С ним замечательно было ходить по Риму, он так и сыпал датами и фактами, вроде: «На этом мосту в таком году Бенвенуто Челлини во главе отряда папских гвардейцев отражал натиск парашютистов десантной дивизии под командованием виконта Монморанси»... Яша был светлый человек. Его сестра продвигает идею, что его смерть все же была не самоубийством.
В Рим я возвращался каждый год до 1984 года. Язык я выучил после первых трех недель пребывания там в 1975 году и реально помогал всем друзьям и знакомым в качестве переводчика. Последний раз в Италии я был в 1984 году. Я хотел остаться в Италии на самом деле, но там всегда было трудно легализоваться.
Бродский в Лондоне
— Бродский часто навещал Англию. Ваши встречи продолжились и там — после того, как вы покинули Рим?
— Впервые в Лондоне мы увиделись в 1977-м, кажется. Он мне позвонил на работу и привел в Буш-хаус (это тот дом, где было радио ВВС). Мы виделись в Лондоне в 1977, 1978, 1989, 1991 годах.
— Целая глава в вашей жизни связана со службой вещания в ВВС.
— Там были свои плюсы и минусы. В 1982 году я прочел на радио целую серию «Современная русская поэзия в западных публикациях» в 35 частях по 10 минут.
У Бродского есть длинные стихи «Представление», и я их решил нарезать кусками для эфира. Но потом передумал вовсе.
— В Лондоне у него были свои коронные маршруты?
— В этом городе он открыл мне одну «тавалу кальду» возле Блумсбери Сквер, мы там обедали несколько раз. У Машки Слоним были несколько раз тогда. Однажды я его встретил прямо на улице: выхожу из станции метро «Эмбанкмент» и иду по Виллер-стрит, где когда-то жил Киплинг и всегда пахнет жареной рыбой, а навстречу Иосиф. Зимний ранний вечер. И мы полчаса провели в сплетнях. Это был 1977 год, я помню, потому что в том году умер Элвис Пресли. Эту встречу я описываю в письме Найману. В тот момент я был в постоянном контакте с Найманом, он был моим гуру в течение тридцати лет. А у Наймана в это время был период неофитства: он крестился под влиянием Стася Красовицкого. У каждого свои причины на это, я сам чуть не крестился однажды.
Вам еще предстоит ознакомиться со стихами Стася. Бродский его высоко ценил и однажды в беседе со мной во второй половине 1960-х заметил: «Да, Стась нам всем подрЕзал яйца». Понять его гениальность можно только войдя в контекст 1960-х годов. У Бродского замечательные стихи, но ранние стихи его мне не нравятся — там столько воды!
— Где в Лондоне жили вы сами и у кого обычно останавливался Бродский?
— В начале 1980-х мы с ним виделись раза три. Я, уже работая на ВВС, приезжал в Рим несколько раз.
В Лондоне я снимал чердак у Натальи Семеновны Франк [дочери профессора, философа С. Л. Франка. — Прим. Ю.Л.]. Этот дом она купила в начале 1950-х и забрала отца и мать к себе из Парижа. Бродский был у них в гостях как-то. Ему там было невыразимо скучно, и Наталья Семеновна мне о нем говорила как о страшном хаме, потому что он пробыл в гостях недолго и ушел без извинений. Это его характерная черта.
В Лондоне он общался с Лялей, он у нее почти всегда останавливался. У него есть стихотворение, посвященное ее мужу-переводчику Алану Майерсу. Он перевел «Стихи о зимней кампании 1980 года».
Бродский прилично знал Лондон. В 1980-х мы там виделись раз пять. Иногда он останавливался у Марии Слоним. Там было всегда довольно не прибрано, и Бродский однажды оттуда сбежал, оставив записку: «Too much of srach». У нее там всегда месяцами жили какие-то люди — как минимум, там жили две собаки. Бродский не был фанатиком чистоты, но он был довольно аккуратен.
— Вы приглашали его на передачи на ВВС?
— Я взял у него однажды коротенькое интервью. Игорь Померанцев сделал с ним основательное интервью. Я записывал его чтение стихов. Леша Хвостенко его отдельно записал на хорошую аппаратуру, и все это есть в сети.
Конец октября 1987-го, когда он получил премию, я сижу на ВВС, и вдруг входит одна английская коллега и говорит: «Вот, Фима, ты был прав, когда говорил, что вот эту пленку с Бродским нужно приберечь, потому что он того и гляди получит Нобелевскую премию». В этот же день он пришел на ВВС, и Машка [Слоним] заперлась с ним в студии и взяла длинное интервью. Потом он исчез, а когда появился в октябре в 1987-го перед тем, как уехать в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, то собрал всех своих лондонских друзей. Он пришел с каким-то английским поэтом, и Фейт Вигзелл, кроме того, у Ляли Майерс были Маша и ее сестра Вера, и кто-то еще.
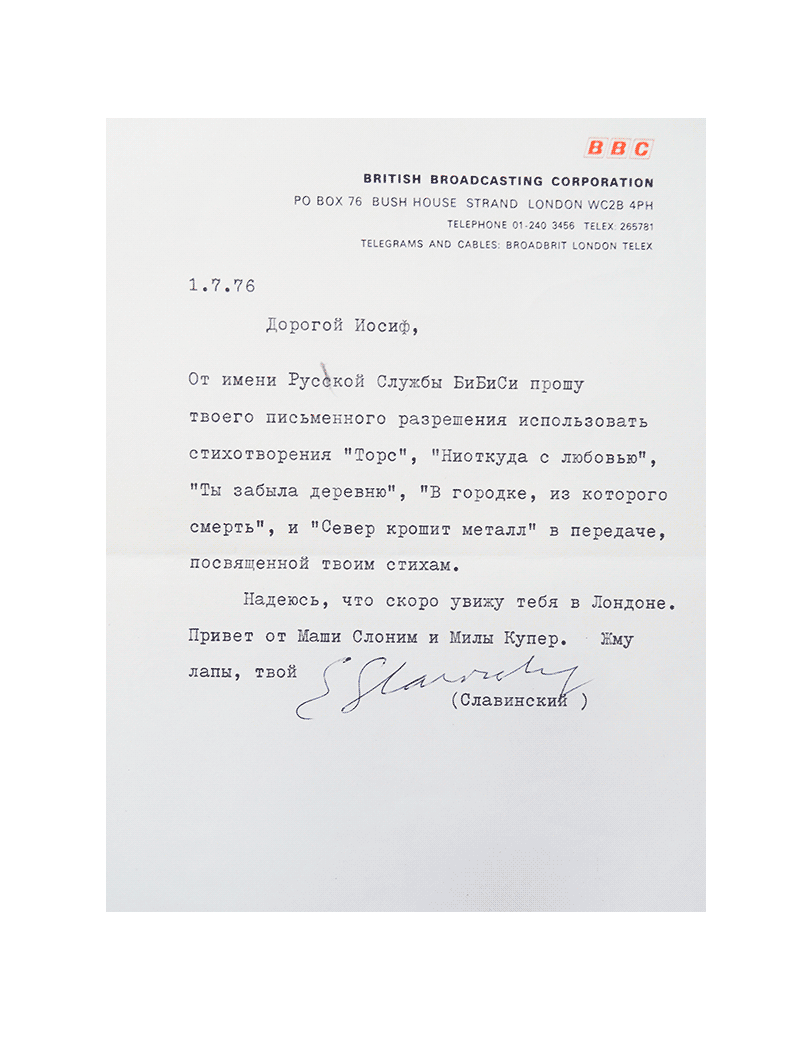
Письмо Славинского Бродскому по делам русской службы BBC. 1 июля 1976
Фото: предоставлено Юрием Левингом
Последний раз я его видел в Лондоне летом 1991 года по какой-то договоренности. Возможно, Найман мне позвонил, потому что у него должна была выйти книга стихов в издательстве Игоря Ефимова [«Эрмитаж»], а Бродский должен был написать к ней предисловие. Найман попросил меня найти Бродского в Лондоне, взять у него этот текст и выслать ему, потому что Иосиф был занят или болен. Я приехал к Ляльке, где он остановился, он вышел меня встречать. А там были двойные входные двери — одна в тамбур, где было две квартиры, а вторая, собственно, в квартиру. Так вот, вторая дверь захлопнулась, мы постучали к соседям снизу и попросили стремянку. Они ему ее дали, мы вышли в сад, сперва я пытался залезть, но он был выше и, в отличие от меня, смог влезть в открытое окно. Я испугался за его сердце, но все обошлось. Он открыл мне дверь, мы сели на кухне и выпили виски.
— Он был бесстрашный?
— Абсолютно. Дикий человек. Он был рабочим в морге и имел дело с трупами в молодости. Я бы не сказал, что он отчаянно храбрый, но тут он проявил смекалку... В 1991 году мы с Бродским посидели, выпили виски. Он дал мне этот экземпляр предисловия с поправками, который я потом выслал. Мы сидели полчаса всего.
Об «ахматовских сиротах»
Евгений Рейн
Конечно, главное влияние на Бродского оказал Рейн, какое-то влияние оказал на него Бобышев. Где-то я встретил высказывание, что «Рейн ему напел всю русскую поэзию». Это довольно точно, потому что Рейн не говорил о поэзии абстрактно, он всегда приводил конкретный пример. Я как-то сказал, что Есенина нельзя воспринимать всерьез, и он тут же процитировал мне гениальную строфу у Есенина.
Рейн писал: «Лучший маршрут — напрямик, напролом». Кто это у кого украл, я не знаю [строка из стихотворения Роберта Фроста «A Servant to Servants» (1914), ср. в оригинале: «The best way out is always through». — Прим. Ю.Л.]. Это из «Vita nova», мои любимые стихи у Рейна [написано в 1970 г. — Прим. Ю.Л.]. Сейчас он исписался совершенно. Процитирую самого себя: «Начались волнения студентов из-за того, что с каких-то пор семинары для студентов стала вести Надька. Она честно привозит на занятия Женю, сажает его в аудитории и вещает сама. Мне не смогли объяснить, в каком он сейчас состоянии, но сама ситуация достаточно наглядна. На что я ей ответил, что это полный сюр, что Надька вытворяет с Рейном. А все от обоюдной жадности. Но она, заметь, серьезно рискует — его может хватить кондрашка прямо по ходу семинара. Героическая кончина, как поэту и положено». Я прислал эту историю Бобышеву, и он мне ответил: «Ну, так на пельмени, видимо, не хватает, как всегда. А вот тебе питерский курьез — Нева замерзла. Такого не случалось с 1970-х годов, когда тот же Рейн провалился напротив Петропавловки по пояс и примчался ко мне сушиться. В процессе сушки выпил мою водку. Галя [Рубинштейн] свидетельница».
Дмитрий Бобышев
Когда Бродского посадили, Дима проявил себя самым лучшим образом. Он написал письмо в Союз писателей, где доказал, что те стихи, которые приписываются Бродскому, не его стихи на самом деле.
Что мне не понравилось, так это то, что, когда Бродский сел, все ему сочувствовали, навещали, я ему послал книги, но Диме объявили неофициальный бойкот. Все бойкотировали, кроме Наймана и меня. Мы с Бобышевым жили недалеко друг от друга, он тогда наконец получил собственную комнату на Петроградской.
— То есть Бродский нормально отнесся к тому, что вы продолжили общение?
— Да, конечно. Мы, когда встретились в Риме в первый раз и я ему рассказал, что Дима осуждает Бродского в стихах — «Кто рвал платочек в истерике среди доцентских дочек?», Бродский ответил: «Митяй все еще переживает за ту историю?» На этом обсуждение и закончилось. У нас были другие темы для разговора — стихи, джаз, Америка. Бродский говорил как-то, что в те годы мы были больше американцы, чем самые американцы. В своем эссе «Трофейное» он развивает эту тему.
— Вам нравится то, что сейчас пишет Бобышев?
— Стихи оставляют равнодушным, а с его прозой у меня сложные отношения, потому что он там привирает много. Он приписывает людям высказывания и приводит прямую речь, которую он физически не мог запомнить. Найман, когда писал свои воспоминания об Ахматовой, писал очень осторожно, избегая прямой речи, в которой он не уверен. У меня с Бобышевым по этому поводу были трения.
Есть небольшой пример. Мы с ним вместе в 1982 году оказались в Милане на конференции «Дель Диссенцио» — сборище русских диссидентов, организованное Владимиром Максимовым. Там были все — от генерала Григоренко до Наташи Горбаневской. Был пиковый момент Холодной войны, роскошный отель, огромная компания. Бобышев был приглашен, а я сам пришел. Они все прилетели одним рейсом из США, и я подумал, что если бы самолет рухнул... Я тогда же познакомился с Парамоновым и Алешковским. Я поставил им пиво с условием, чтобы Алешковский подарил мне доллар с автографом. Бобышев благодаря мне повидал Венецию и Рим. Вот мы на этой конференции, и Бобышев знакомится с Юрием Гальпериным и Михаилом Генделевым. Мы с Бобышевым собирались уже идти на поезд и ехать в Венецию, но он говорит, что Гальперин предлагает нам вчетвером ехать на его машине, если мы скинемся на бензин. У меня были сомнения на этот счет, потому что я знаю, что им в Венеции негде ночевать и их мы не можем привести к моим итальянским друзьям. Так вот, в итоге они ночевали в машине. А у Бобышева в воспоминаниях описано это так, что, мол, мой друг Славинский говорит, что он только что договорился с Генеделевым и Гальпериным и т.д. Вот так по мелочам присочиняет.
На этой конференции Бродского не было. Это было заметно — так же, как и отсутствие Синявского.
— А что в кулуарах говорили о Бродском?
— Кто-то его любил, а кто-то нет. История вражды Бродского и Бобышева хорошо документирована. Меня она никогда не интересовала, и никого бы не интересовала, если бы Бобышев ее не раздувал.
Я писал кому-то про Бобышева: «По линии гражданской чести он проявился безупречно сразу после фельетона в Ленправде, в котором приводились три цитаты из его стихов, выдаваемые за стихи ИБ. Очень неряшливая стряпня Лернера и гэбухи. Бобышев направил в Ленотделение Союза писателей суровое письмо протеста. Впрочем, перечитай лучше ту часть его мемуаров, которая в 11 номере октября за 2000 год. Если бы не арест, суд и ссылка, все бы устаканилось. Вся эта история с Басмановой не превратилась бы в роман века. Не могу я всерьез отнестись к этому конфликту взбесившихся самцов. Подумаешь, бабу не поделили. В этих делах выбирают женщины, не правда ли? Кстати, Ахматова, до которой успели дойти пересуды, высказывала недоумение, почему это все говорят Дима, Ося, Ося, Дима, а где же Марина? Что она себе думает? А она ничего не думала. От нее не осталось ни единого слова и один посредственный снимок в сети».
Ахматова к этому треугольнику века относилась скептически.
Дима подвел Бродского... Чушь все это! А как себя вел Бродский? Резал театрально вены и ходил по всем домам жаловаться на судьбу в засаленных бинтах.

На обломке капители римской колонны. Фото И. Бродского. Январь 1975
Предоставлено Юрием Левингом
Анатолий Найман
У Иосифа были периоды [дружбы с разными людьми]. Например, был период до ареста в году в 1962, когда у них с Найманом была просто любовь: они встречались каждый день, при этом оставались на «вы».
Найман невероятно на меня повлиял. Мы познакомились в 1958-м, а в 1974-м я уехал (меня удерживало то, что я был полтора года отказником по еврейскому вызову). Он меня разочаровал, но это никак не повлияло на мое отношение к его прозе. Самую лучшую книгу он написал о Берлине, это роман «Сэр». Тридцать лет он был моим третьим по счету гуру, вторым был Фима Барбан. Он был моим гуру с 1954-го по 1956-й. Гуру — это не друг, а наставник, тот, кто вне критики. Фима живет в Лондоне, в трех остановках метро от меня, он работал на ВВС.
Найман приобщился к приземленному христианству вместе со Стасем Красовицким: козы, огород, дети и т.д. Вот я это все излагаю, а Бродский меня перебивает и спрашивает: «Кто у них там сейчас главный?» Я говорю: «Серафим Саровский». Сказал я это просто так — ляпнул, по сути. На следующий день приходит Машка на работу [на радио] и показывает мне открытку, которую Бродский написал Найману. На открытке изображен Элвис Пресли, опирающийся о рояль, а с обратной стороны такой текст:
Дорогой Анатолий Генрихович,
Посмотрите, кто умер!
Элвиса Пресли прибрал всемогущий Бог,
и Серафим Саровский нового собеседника приобрел,
и сказал Серафиму Элвис:
You ain’t nothing but a hound dog
just rockin’ all the while and roll.
Джозеф энд Мэри энд их бритиш кореш сидят в пивной,
у Серафима — нимб, у Элвиса — ореол,
а у Джозефа — плешь и этому жизнь виной.
Just rockin’ all the while and roll.
Виски для человека, как для пореза йод.
У Джозефа был инфаркт, но он это переборол.
Элвис не пьет, и Серафим не пьет
Just rockin’all the while and roll.
Mary hasn’t remarried and Joseph, увы, не смог
Серафим был холост, а Элвис — тот был орел.
You ain’t nothing but a hound dog
just rockin’all the while and roll,
just rockin’all the while and roll.
just rockin’ all the while and roll.
You ain’t nothing but a hound dog, так что лай, как все.
Элвис говорит Серафиму — ну, я пошел.
«Cаледующая сатанция — Димитровское шоссе».
Votre сильно SkuCharlie.
Замечательные стихи. Маша показала это мне, и я снял фотокопию. И это хорошо, потому что Найман открытку не получил. Эти стихи я позже перепечатал и послал в письме Найману.
Америка Бродского
Я был один раз в Америке в 1979 году с Анной Дони. Мы пошли тогда к Бродскому в гости на Мортон-стрит, и он повел нас в сычуаньский ресторан. Потом он посадил нас в свой «Форд Матадор» и повез на Бруклин Хайтс, откуда хорошо видно Нью-Йорк.
— Он любил Нью-Йорк?
— Да, он кое-что понимал в Америке. По давности знакомства мы были друзьями, по регулярности — знакомыми. Мы виделись редко, но всякий раз интенсивно. Лифшиц (Лев Лосев), наверное, был его другом.
В мою последнюю встречу с Бродским, я его спросил, кого бы он посоветовал из молодых поэтов. Но он перевел разговор. Я только по слухам знаю, что он ценил Гандельсмана, но таких поэтов десятки. Мне нравятся стихи Марии Ватутиной. Это явное подражание одному стихотворению Бродского, но сами стихи классные: «С чужими не разговаривай, жизнь у тебя одна...».
— Но в Америку в итоге вы жить так и не переехали?
— Меня не пускали в США, потому что у меня была судимость по наркотической статье в России, и я не стал об этом врать в анкетах. У меня были безумные идеи: я собирался приплыть туда нелегально в качестве кочегара в порт Гальвестон в Техасе. Меня отговаривали от этой глупости. В письме от 1 августа 1975 года Бродский писал мне, что «нанят адвокат, который роет землю во всех возможных направлениях», и добавлял: «На той неделе увижусь с сенатором Бакли, постараюсь на него нажать. Насчет башлей — заткнись раз и навсегда. Я думаю, что удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Второе — где-то там в ваших краях обитает Нэнси Шилли. Ее можно найти через Ирину Керк и сказать при этом такие слова: „пускай приезжает в Энн Арбор, а башли мы найдем“. Стишки для тебя новые и старые подошлю, как только руки дойдут. Дай Марамзину телефон Джанни Буттафавы и введи его в контакт с Сильваной [де Видович], которой — поцелуй».

Славинский у себя дома в Лондоне. 2018
Фото Ю. Левинга
— Кто такая Нэнси Шилли?
— Это моя коллега. Я работал в ХИАСе — это еврейская контора, помогающая перебираться в США. Нэнси прекрасно говорила по-русски. В письме от 27 февраля 1975 года Бродский предупреждал меня не рыпаться пока в Госдепартаменте хлопочут насчет моих дел. Если ты совершил одну ошибку, то это не значит, что надо совершить другую, говорил Бродский. Планировалось, что сначала я приеду в Канаду. «И ради Бога, не переходи границу пешком. Ее надо переезжать на автомобиле», пытался вразумить меня Иосиф и добавлял, что в марте в Италию «поедут две Мичиганские чувихи. Одна из них — Нэнси Бэверэдж — совершенная прелесть, и я дал ей твой адрес, если ты еще будешь там. Их водить по Риму тебе будет приятнее, чем пожилых израильтянок или даже Раису Львовну. Кроме того, Максимов обещал подкинуть тебе работенку. Пошлю тебе завтра башли. И не откладывай их для братана, так как не известно, когда он ими сможет воспользоваться».
Как я писал в свое время Мейлаху, в Англии я нашел работу и втайне радовался, что буду жить в Европе, и после восьми недель в Штатах понял, что правильно вышло: «Ю Эс Эй для молодого, полного сил человека. А чтобы в Манхэттене жить, так надо быть титаном духовно и физически. Потом, в гражданском смысле я европеец».
— Между прочим, живя в одном европейском городе с Валентиной Полухиной, вы почему-то так и не дали ей интервью.
— Никогда, хотя я ее давно знаю по Лондону. Как-то не приходило в голову. Однажды мы с Найманом поехали к ней в гости, когда она еще преподавала в университете на севере Англии. Она замечательно принимает, угощает, и вот мы все время говорим про Бродского да про Бродского, а Наймана это корежит. И вдруг она спрашивает нас: «Когда вы впервые поняли, что перед вами гений?» Я расхохотался, а Найман говорит: «Вблизи невозможно понять, гений перед тобой или нет». Он прав абсолютно. Тут аберрация близости. Скажем, ясно, что Данте — гений, но это ясно сейчас, через пятьсот лет. Или Пушкин — он гений, а насчет Блока я уже не уверен. Гений — это нечто потустороннее, не от мира сего. Я видел гениев, дважды у меня было ощущение гениальности человека. Это был Стас Красовицкий — когда я впервые прочел его стихи в Ленинграде примерно в 1960 году, то понял, что он гений, да и все почувствовали этот сквознячок потустороннего. И второй раз — это была Лена Шварц. Ей было пятнадцать лет, когда я с ней познакомился. А Бродский? Ну, какой же он гений, мы с ним пиво выпивали на днях.
— Похожий эффект описывала Татьяна Яковлева, жена Алекса Либермана, когда утверждала, что встречала в жизни двух гениев — Маяковского и Бродского.
— Ну Маяковский разве гений? Он, пожалуй, в третьем ряду.
— Что-то ваш «гамбургский коврик» слишком узок. И где же располагается по прошествии лет Бродский?
— Бродский — в первом ряду.
Послесловие Юрия Левинга
Со Славинским мы познакомились, когда я собирал материалы для книги «Иосиф Бродский в Риме» (готовится к печати петербургским издательством Perlov Design Center), поэтому мы довольно подробно говорили именно о римском периоде Бродского. Сначала я звонил Ефиму по телефону, потом навестил его в Лондоне. Переписываться ему было трудно, но и письменный, и устный стиль изложения «главного битника» Ленинграда шестидесятых годов прошлого века был неизменно узнаваемым («Я только что вернулся из больницы, накачанный стероидами, от которых дрожат руки и физически тяжело печатать, а то бы я вам написал все, что помню о встречах с И.Б. в Риме. Если вам интересно, позвонИте мне на халяву, если получится, или reverse charge’м, в любой из ближайших дней, когда вам удобно, но не позднее 11 вечера по лондонскому времени»). Во время нашей лондонской встречи Славинский говорил сначала с сильной одышкой, потом разошелся, и под конец никак не хотел меня отпускать. Метро, к сожалению, закрывалось, и нужно было возвращаться в центр. На пороге, прощаясь, хозяин вручил мне книгу о Бродском Дэвида Бетеи с памятной надписью — по дате сейчас вижу, что это было 12 апреля 2018 года — а также папочку с ксероксами писем к нему Бродского, копиями нескольких автографов стихотворений и оригинальными фотографиями из Рима. Еще вдруг неожиданно выяснилось, что в годы далекой киевской юности Фима был одноклассником Омри Ронена, его «первого гуру». Уже в преклонном возрасте они наладили переписку, и о Славинском есть косвенные упоминания в «Из города Энн». Мы собирались посвятить отдельный диалог памяти выдающегося филолога, письма которого он мне также переслал, а я ему — свой текст о Ронене из подборки In Memoriam в Toronto Slavic Quarterly, вызвавший у него эмоциональную реакцию: «За некролог большущее спасибо! Нет, правда! Это первый класс! Как это я проморгал!? Зато теперь подписываюсь под ним обеими руками». Мне жаль, что публикуемая здесь беседа ретроспективно оказывается своеобразным автонекрологом самого Фимы. Благодаря цепкой памяти Славинского и практической помощи их общей с Бродским итальянской подруги Сильваны де Видович, неоднократно упоминаемой в интервью, позже удалось обнаружить тот самый автограф Бродского, оставленный им в книге посетителей знаменитого римского Кафе Греко, где за полтора десятилетия до него расписалась Анна Ахматова.
Фото: предоставлено Юрием Левингом
О поэзии, джазе и римских прогулках с Иосифом Бродским: публикуем беседу Юрия Левинга с переводчиком и радиожурналистом Ефимом (Славой) Михайловичем Славинским (1936–2019).
Ленинградская молодость
— Как вы познакомились с Бродским?
— У нас очень давние отношения — мы познакомились в 1960 году. Виделись нечасто, но постоянно. Перед самым его отъездом не виделись. Я тогда жил в основном в Питере. Бродский уникальный в этом смысле человек, у него было 500 друзей, и я в том числе. До того, как он познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, одним его из ближайших друзей был Гарик Гинзбург-Восков. Есть его абсолютно пресные воспоминания о раннем Бродском. Сам по себе он интересный человек.
Иосиф пришел как-то на Благодатный [конечная трамвайная станция «Благодатный переулок» в районе Московского проспекта в Ленинграде. — Прим. Ю.Л.]. Как получился Благодатный? Леня Ентин женился на Элле [Липпе], а я на Гале, и мы искали жилье. Нам удалось снять две комнаты из трех в квартире, принадлежавшей полковнику, который уехал на все лето. Вот у нас на все лето образовалась пустая квартира. Тогда жилищные условия у всех были чудовищные, поэтому некоторые к нам приходили просто принять ванну. Леня Ентин приволок однажды туда Бродского, который всем понравился. Молодой, здоровый, рыжий, он приехал на велосипеде в дырявом спортивном трико. Он моментально стал читать стихи. Тогда все читали стихи. Конец 1950-х — это исключительно стихи. Окуджава и барды были позже.
— Какое впечатление тогда на вас произвела его поэзия?
— Бродский нас совершенно задурил своими стихами. Я его познакомил с Рейном. Мы тогда любили раннего Пастернака, образцом для нас был ранний Тихонов, несколько стихотворений Луговского 1920-х — 1930-х годов, многие любили Багрицкого, но я его терпеть не мог. Заболоцкого любили, но не на Благодатном. Слуцкий повлиял на Бродского тоже.
У меня гипотеза такая, что если бы Бродский вовремя, в двадцать лет, не познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, то не было такого Бродского, которого мы знаем. Они к тому времени состоялись как поэты, а он пришел зелененький. Он писал тогда под Пабло Неруду. Они развивались до конца 1970-х, а он только начал разворачиваться. Вот если бы он познакомился тогда не с ними, а с Евтушенко, например? Это был бы другой человек. Кто в то время играл такую же роль, как Рейн? Он же уникален. О себе он написал, что он выучил писать стихи двенадцать человек. У него есть стихи на эту тему: «Выучил дюжину учеников — шесть негодяев, шесть мучеников».
— Почему Бродский называл вас Юхим?
— Он меня так называл, имея в виду мое украинское происхождение. Я тоже называл его Джозеф. В январе 1975 года, когда мы встретились в Риме, он подарил мне подборку стихов с замечательной надписью на рукописи «Торса»: «Ефиму, to the only reader West of Berlin» («Единственному моему читателю к западу от Берлина»). Это в каком-то смысле правда.
— Поясните, что Бродский имел в виду?
— Я один из первых его понимающих слушателей. Помните, Рейн описывает это...
— Он пишет, что вы их познакомили с Бродским в 1959 году.
— Только в 1960 году. Рейн врет, как дышит.
— В «полутора комнатах» приходилось бывать часто?
— Раза три. Последний раз — за шесть дней до моего ареста, когда Иосиф праздновал день рождения, и там было человек тридцать. Меня арестовали 29 мая.
В 1971 году в Новокузнецке я получил целый месяц отпуска и побывал и в Москве, и в Питере, где ломанулся к Бродскому. Мне открыл его отец, не узнал меня, но впустил к больному Иосифу. Там лежал Бродский — бледный, как смерть: то ли простуда, то ли сердце, и сказал мне, что написал стихи. Он их прочел мне вот таким мертвым голосом. Это были стихи «Натюрморт». Я тогда долго не стал сидеть, у него уже была одышка в тридцать лет. Так плохо он никогда не выглядел ни до, ни после.
— Расскажите про свою судимость.
— В зоне я был всего девять месяцев, а потом досиживал срок «на химии». Меня послали в Новокузнецк на стройку бетонщиком.
— Ваше дело ведь было сфабрикованное?
— Если бы не политика... Вообще, да, сфабрикованное. [Константину] Азадовскому подкинули, потому что он был знаком со мной. Таких курильщиков, как я, полгорода. Их всех сажать, что ли? У меня не был доказан факт сбыта, я только покурить давал кому-то. Но судья решил, что в данном случае это можно приравнять к факту сбыта.
— У вас нашли запрещенную литературу?
— Я как чувствовал и самое страшное спрятал. У меня были хроники Горбаневской [редактор самиздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий» в 1968 г. — Прим. Ю.Л.]. Нашли только Мандельштама. Если бы меня посадили за самиздат, то не выпустили бы досрочно. Я освободился в самом начале 1972 года.
Встречи с Бродским в Риме
— Сколько вы времени находились в столице Италии?
— Я приехал в сентябре 1974-го, а улетел в Лондон 16 января 1976 года. Я снимал комнату, подрабатывал в ХИАСе, получал пособие — в общем, кайфовал. Я жил на Пьяцца Фьюме, в одном квартале от Порто Пиа.
В 1975 году Анна Донни, которая живет в Риме, повезла меня к своим родственникам на Новый год под Венецию, потом я вернулся третьего числа где-то, и тут звонок — Бродский. Оказывается, он тоже был в Венеции и сейчас в Риме. Мы встретились, стоял пасмурный день. В первый же день нашей встречи мы пошли гулять на Форум, там он сделал несколько неудачных моих снимков. Вообще, в 1975 году мы несколько раз встречались в Италии, он всегда туда ехал, как только у него появлялись деньги.

Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. Бродского
Предоставлено Юрием Левингом
Свое пребывание в Риме он воспринимал через фразу Гете «Остановись, мгновение, ты прекрасно». При этом Гете он не читал, но вот это ощущение есть в его римских стихах: в стихотворении «Пьяцца Маттеи» прямо целиком приведена эта фраза. Бродский подарил мне тогда подборку своих стихов, которые я потом взял и передарил Ромасу Катилюсу в Вильнюсе.
Я в Москву отправил подруге открытку 5 января 1975 года, поэтому помню точно дату, когда мы увиделись с Бродским. Прочту вам отрывок:
«Буду в Риме еще месяца три. Жду вестей от Шуры. А вчера утром вдруг звонит Иосиф —»Юхим, я в Риме". Мы не виделись три года и вот гуляем, выпиваем и треплемся. Он в полном порядке. Сегодня видели папульку (Римского), издали. Он произносил речь. Сказал, что все будет в порядке.
Потом пили какао в знаменитом Café Greco. Там бывали все знаменитости, ну, и мы решили побывать. Сидели под портретом Гоголя. Потом поднялись по Испанской лестнице и пошли к Villa Medici, и я заметил, что у Иосифа одышка.
У меня одышки нет, но все хуево с бронхами. Впрочем, я думаю, что все будет в порядке. Почему не пишешь? Что-нибудь не в порядке? Этот колдуэлловский идиотизм [Эрскин Колдуэлл — американский прозаик, популярный в СССР в 1940-60-е гг. — прим. Ю.Л.] на меня нагнал Иосиф своими рассказами об Америке. Говорит, там все в порядке. А их президент знаешь, почему лысый? Много играл в бейсбол без шлема, перепадало ему мячиком. Прощай, старушка. Пиши почаще. Твой Е.С.«
Мы сидим в «Кафе Греко», у него с собой была его только что вышедшая по-английски книжка в переводах Джорджа Кляйна с портретом на суперобложке. Я в какой-то момент говорю официанту: «Со мной сидит знаменитый русский поэт, поэтому принесите нам книгу почетных посетителей». Он на нас посмотрел скептически, сидят какие-то два хмыря, но принес нам толстенную книгу — такой гроссбух, и Бродский там расписался. Это было 3 или 4 января 1975 года [правильная дата — 9 января — прим. Ю.Л.]. Были встречи и после.
— А вы фотографировали его?
— Нет, я снимать не умею, я технический идиот. А Бродский — сын фотографа.
Потом, в конце 1975 — начале 1976 года я заходил к нему в отель на Пьяцца Минерва, где он жил на самом верхнем этаже. Мы пошли гулять на Испанскую лестницу, Пинчо и Trinita dei Monti. «Остановись мгновение» — это был лейтмотив Рима для нас обоих. Так вот, он мне подарил свою подборку, которая открывается этим гениальным стихотворением «Торс».
— Он вам отдал рукопись?
— Нет, это была машинописная подборка, которую я подарил Катилюсу. Я Рим знал не хуже Иосифа. Знаете, в Италии есть столовые самообслуживания? Мы там обедали, потом где-то с Анной, у Сильваны де Видович. Сильвана (Сизи) не принадлежала к ближайшему кругу людей Бродского, из него я знаю только Джованни Буттафаву. С Сильваной я был знаком еще с 1967 года, и когда я оказался в Риме, она сама вышла на меня. А кто был в круге ближайших его друзей, я не знаю. Он умел дружить со всеми по отдельности и с каждым, как с самым близким другом.
— А вы писали стихи?
— Нет, у меня нет воображения. Он меня ценил как знатока поэзии. Рейн говорит, что он учитель Бродского. И это абсолютная правда. Рейн и меня научил воспринимать стихи. Мы с ним познакомились в 1958 году.
— Вернемся в 1975 год и к вашим встречам с Бродским в Риме. Как Иосиф начинал читать стихи?
— Это происходило мгновенно, его не надо было долго просить.
— Реагировали ли на это прохожие?
— В Риме за 3000 лет столько всего было, что, скорее, нет. Когда я жил в Италии, вышел роман итальянского писателя о том, как вдруг в Риме оказывается марсианин и становится фигурой дня в городе, а через месяц он уже всем надоедает. Мы говорили обо всем, виделись в этом году еще раз пять.

Славинский. Рим. 1975
Предоставлено Юрием Левингом
— Вы упоминаете о своем и ваших приятелей увлечении модернистским джазом и западным ширпотребом.
— Мы все сидели на этом джазе. Что произошло с СССР? Нас закидали джинсами по аналогии с выражением «закидать шапками». Советский Союз погиб, потому что не умел производить джинсы. А мы все торчали на этом джазе. Главным теоретиком и пропагандистом джаза у нас был Фима Барбан. Он живет в Лондоне сейчас. Он был моим гуру с 1955 по 1958 годы. Нас пленяли классический джаз и диксиленд, Армстронг, Рой Элдридж, Джони Ходжес. Основным открытием для меня стал Билборд, которого для меня открыл Барбан. Чарли Паркер, Монк, Дэвис — вся эта компания. Вы знаете, кто такой Уиллис Коновер? Есть три знаменитых американца на весь Союз — Джек Лондон, Кеннеди и Уиллис Коновер. Последний — это диджей джазовой передачи «Голоса Америки». Юрий Ермолов вам лучше расскажет об этом времени.
По поводу западного ширпотреба есть замечательное эссе Бродского под названием «Трофейное», и там все описано. Описано, как мы торчали на этом. Если уж вспоминать о подарках, то как не вспомнить, что в нашу первую встречу в Риме (начало января 1975-го) он подарил мне чудный свитер тонкой вязки, бутылочного цвета, который только что купил в Венеции, но ему оказался маловат... И тогда же — машинописную подборку своих последних стихов, с уже упомянутым дарственным инскриптом «Ту зэ оунли ридер уэст ов Берлин»...
— Бродский тогда тоже подсел на джаз?
— Об этом свидетельствует поэма «Шествие», которая ходила по рукам в конце 1960-х, она была огромной (Бродский вообще был необычайно производительным). В моей самиздатской копии «Шествие» состоит из двух частей, а между первой и второй частью там было написано: «Конец первой части. Следует десятиминутный джазовый проигрыш. Выходят и играют...». Дальше он перечисляет как минимум полтора десятка джазовых, в основном авангардных, музыкантов. Это были наши любимцы — я запомнил некоторые имена: Луи Армстронг, Рой Элдридж, Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган, Дэйв Брубек, Телониус Монк, Кэннонбол Эдерли, Джон Колтрейн... Вставка с перечисления великих джазменов между первой и второй частью «Шествия» была в самиздатских экземплярах — что оная таки существовала, может подтвердить выдающийся питерский литературовед Татьяна Никольская, «Шествие» я читал именно с ее машинки.
— Музыка влияла на поэзию Бродского?
— Конечно. Я помню, что в 1960-е, когда мы виделись до его посадки, он торчал на джазе и русской поэзии. Смешно сказать, что Бродский в 1959—1960-х подражал Янису Рицосу, Георгию Сиферису, Пабло Неруде. Эти дурацкие образы гладиаторов, черепа и еврейского кладбища.
— Кстати, вы видели книгу «Музыкальный мир Бродского»?
— Нет. Все упоминают о Перселе, «Дидона и Эней». Это чистая случайность. К Найману приехала одна английская аспирантка и привезла эту пластинку. Ахматова ее прослушала и заахала, она ж сама себя сравнивала с Дидоной. Отчасти это же история о ней и об Исайе Берлине. Почему он, гад, не женился и не увез ее?
Празднование нового года с Бродским в Риме
Так случилось, что в конце декабря 1975 года у Сильваны пустовала квартира, и она отдала мне ключ, чтобы мы смогли отпраздновать там Новый год. На этой вечеринке, кроме Нэнси, была еще Клавдия Яковлевна Славинская, которая приготовила нам котлеты, Нина и Никита Ставиские. Они долгое время жили в Лондоне — Нина работала на ВВС, потом они попали в США, работали в школе языков, потом перебрались в Лондон. Никита умер в 2007 году, а Нина уехала в Израиль.
— Они знали Иосифа и раньше?
— Это был его круг общения. У меня есть в расширенном виде отрывок, который я привел из письма Людмилы Штерн. Это из письма Мише Мейлаху: «При первой же встрече с Иосифом я ущипнул его вопросом о тебе: „Что же ты, гад, лажаешь Мейлаха по своим салонам? Ты же знаешь, что он светский человек, и это может ему навредить?..“ и т.д., на что он ажно закручинился, запрокинул головушку и молвить изволил: „Да *** [чего. — Прим. ред.] ты мне: Мейлах, Мейлах! Что он, стеклянный, что ли? Что о ком хочу, то о том и говорю, и пошли вы все...“. И я подумал: действительно, Пьяцца дель Пополо, солнышко зимнее пригревает, красотища кругом и такая встреча, *** [чего. — Прим. ред.] там разбираться, действительно. Короче, надо немедленно поддать, что мы и сделали, и пошли по Малому Кругу, то есть не отходя далеко от Тибра. У каждого из нас в Риме есть „свои места“, и соответствующие поливы и пластинки. Вообще, в Риме с Иосифом было интересно, он там всегда был расслаблен и доволен. Написал чудный свой „Торс“, читал, гнусавя, под пиниями Виллы Боргезе, — большой кайф... В Новый год мы с ним и Никитой Стависким пели польские песни. Это оказалось единственное общее хобби троих, в общем-то, чужих людей. Перекидывались мелкими сплетнями и налегали на бренди. Тетка моя приготовила аидише котлеты с луком. Нэнси быстро вырубилась и уснула прямо на ковре, и от ее босых ступней шел пар почему-то. Еще были Нина и Анна. На квартире Сизи [де Видович], среди ковриков и советских и маоистских плакатов». Никита Ставиский учился на историческом факультете и специализировался по Польше, Бродский всегда любил Польшу с моей подачи, а я известный полонофил.
Вот еще одна цитата из письма Людмилы Штерн:
«Вечером был на лекции Иосифа в School of Slavonic Studies. Он прочел на беглом и точном английском толковое эссе „Писатель и язык“ (потом я выяснил, что и намахал он его прямо по-аглицки за четыре ночи. Вот молодец!), Ляля [Майерс] разносила чай и шерри, Джозеф отвечал на вопросы (будучи, как обычно, мил с полузнакомыми, а вообще-то, он все такой же хам). А потом Алик Берг повел нас семерых в какой-то особенный индийский ресторан, невзирая на мои протесты — индийская кухня совершенно несовместима с моим еврейским желудком, способным переваривать гвозди. Тут возникли какие-то напряги — Алик и [Зиновий] Зиник свалили, и вечер закончился самым скучным образом у Машки [Слоним]. Джо сперва рыпался, что мы все какие-то сонные, ему хотелось действия, мол, вот у нас, в Америке... „Ну, да, — начали дорываться мы, — это молодая динамичная страна, размах и энергия, нью фронтир“. „Нет, — сказал он, — просто перемена ритма“. Он сейчас в Кембридже. И стишки почитал — один другого лучше, длинные, напористые, чисто описательного, любовательного свойства, все как один. В этот вечер он опять мне понравился, как это было в Риме. Потому что наши предыдущие лондонские встречи совершенно не удавались. Не те обстоятельства, он капризуля, а вот он среди людей, видящих его насквозь, любящих — но на мякине их не проведешь — тогда он ручной. В эссе он назвал себя „тем из русских авторов, на кого наибольшее влияние оказала англо-американская поэзия“, — наибольшее по сравнению с другими авторами. Это не комплимент хозяевам: в английском цикле и в „Колыбельной трескового мыса“ влияние это уже видно и подчеркнуто».
Это циркулярное письмо, я его разослал нескольким людям. Это конец 1979 года. Письмо Мейлаху про Новый год — это ноябрь или декабрь 1979 года. Мейлаху я писал в СССР. Это было после моего единственного визита в США, где я видел его сестру Мирру и зятя Генриха Орлова. В течение 1975 года я от него получил три письма.
Другое письмо мне в Лондон: «Это письмецо не столько для тебя, сколько для Машки, с которой мы проблему нижеследующую уже обсуждали в столице французской республики. Она знает, о ком речь. Так вот, чувак скоро окажется в Риме, и если все пойдет нормально, и я думаю, что его было бы хорошо попробовать устроить к вам [на ВВС], — хотя бы из соображений чистого воздуха. Посему, не отпишешь ли мне, какова процедура и ее стадии — с тем, чтоб я его мог вовремя информировать и избавить от всяких там накладок и траты времени. Сие есть первое. Второе — насчет того же самого, но кадров, уже пребывающих тут. М. говорила про какие-то там аппликации, т.е. анкеты и запись голоса и проч. Можно ли все эти дела переслать сюда или следует рыть землю на месте — и тогда квэсчен: где? Бродский, 309 Уэсли стрит, Энн Арбор, Мичиган, 48104, USA».
Еще один вечер в Риме вспоминается. Мы далеко за полночь пьем кофе, разбавляя его виски в баре у Термини. Иосиф расстегивает рубашку и показывает довольно свежий шрам от операции на открытом сердце. Я думаю, что это возле первой операции было. Я ему тогда сказал: «Тянет на Нобеля». Это тогда он мне подарил свитер.
Рим для Бродского был просто кайфом, особенно после питерской погоды. Когда я попал в Рим, то поверил в переселение душ и понял, кем я был в прошлой жизни — я был ягненком, пасся на холмах в XVIII веке, меня зарезали и подали на обед какому-то кардиналу. Поскольку я провел невинную жизнь, то возродился в следующий раз уже в более высокой инкарнации — в человеческой. Я понял, что я здесь был. Но, будучи человеком, я столько нагрешил, что, наверное, в следующей жизни я буду тараканом.

Славинский на Римском Форуме. Январь 1975. Фото И. Бродского
Предоставлено Юрием Левингом
— Вы такое не говорили Иосифу? Вы об этом в итальянских забегаловках обсуждали?
— Этого я не помню. Кстати, я помню, что мы заказывали из итальянской кухни — это была фасоль. Мы оба ее любили. Бродский не говорил по-итальянски и не хотел быть похожим на итальянца.
— Не чурался ли бывших соотечественников при встречах с ними в Италии?
— Нет.
— Посещали ли вы вместе музеи в Риме?
— Нет, но мы ходили на вершину Авентина, где есть закрытый сад, в воротах которого зияет дыра, поглядев в которую, человек видит аллею деревьев, в конце которой, как на картинке, виднеется купол Святого Петра. Сан Пьетро — это известная достопримечательность.
— Иосиф был фланером?
— Да, как и я, с нотами поведения типичного туриста. Мы кайфовали.
— Комментировал увиденные красоты?
— Мы торчали от всего.
— Как вы относитесь к его Римским стихам?
— «Виа Джулия» — ничего. «Пьяцца Маттеи» — местами гениальные, но испорченные похабенью. «Я ставил Микелину раком» — так нельзя делать.
Подборка стихов, которую он мне подарил при встрече в 1975 году, состояла из десяти стихотворений. Первое стихотворение было «Торс»:
Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг...
А «Вертумн», посвященное Джанни Буттафава, я так и не прочел — это длинное и занудное стихотворение. У Бродского много воды в стихах.
— Знакомил ли Бродский вас с его римскими друзьями?
— С Сильваной я был знаком и без него, а вот с Буттафавой я познакомился с его подачи.
— Известно ли вам о том, что он делал в свободное время?
— Кого он трахал? Понятия не имею...
Мы подбираемся к концу 1975 года, когда он появился в Риме опять. Иосиф привел меня к двум своим бывшим студентам-американцам Арнольду и Джоан. Мы пришли к ним на квартиру, целый вечер сидели, галдели. Им было просто приятно, что появился еще один человек, который прилично говорил по-английски. Квартира была в районе Виа Кондотте.
— Вы упомянули, что вместе с Иосифом видели Папу Римского.
— Папульку видели, я не помню, кто тогда был. Он вещал с балкончика. Иосиф его называл «папулькой».
Однажды в Риме, в начале 1980-х, мы виделись по крайней мере два раза: первый — когда он мне шрам показывал, а второй — в июне 1981-го, когда его пригласила Американская академия читать стихи. Я был на этом мероприятии. Я приехал тогда в Рим к Славику и Лоре Паперно. Я случайно узнал, что Иосиф выступает в Американской академии, и мы рванули туда. Он тогда любовно на нас посмотрел, мы потрепались и разбежались. Были встречи и после Рима.
— Был ли Бродский щедрым?
— Он был щедрым со всеми. Мне Найман рассказывал, как они встретились в Венеции, и он его повел в самый шикарный бар в мире. И тут какие-то итальянские знакомые появились, которых он тоже стал угощать шампанским. Безумные какие-то поступки.
— Он как-то менялся за эти годы?
— Последний раз я его видел в 1991 году. Нельзя сказать, что мы были закадычными друзьями, но мы знакомы с 1960 года. У нас были общие хобби — русская поэзия, американский джаз, Польша. Нам нравились два фильма Вайды — «Канал» и «Пепел и алмаз». В Риме он мне говорил, что из стран, изначально принадлежащих белому человеку, самая замечательная — это Ирландия. Он там бывал, рассказывал, какие там люди живут замечательные. Ему очень нравился Дублин. Это у меня есть в письме Людмиле Штерн. Есть избранные страны, на которых он кайф ловил — Мексика, Ирландия, Италия, Польша, Венеция отдельно. Про Польшу у него нет стихов, но мы говорили о ней. Мы шутили, что это самый веселый барак в соцлагере. Он по-польски мог читать, он перевел Галчинского, Тувима переводил.
Как-то мы навещали в Риме поэтессу по имени Эва Брудне, которая жила у Люси Торн. Она нас угостила обедом, и Иосифу пришлось послушать ее стишки в виде платы за обед. Она была счастлива. Она была в Риме в 1975 году проездом, сейчас она живет в Австралии.
Я обожаю его стихотворение «Представление». Оно существовало в нескольких вариантах. Тот вариант, который я получил, был сокращенным, а полный уже опубликовали в «Континенте». Мои любимые его стихи — это «Колыбельная Трескового мыса». Это самые американские его стихи.
— В Йельском архиве отложилась сделанная вами в Риме фотография Бродского рядом с благородно одетой пожилой дамой. Они стоят у статуи волчицы, кормящей Рема и Ромула. С вашей помощью мне удалось идентифицировать женщину — Раису Берг.
— На снимке таки да, Раиса Львовна Берг, она довольно долго проторчала в Риме по пути в Америку, это 1975 год. Она была выдающийся биолог и покровительница диссидентов и богемы. См. ее книгу «Суховей». С Иосифом они были знакомы с начала шестидесятых годов, он у нее на квартире читывал стишки. Про Р.Л. можно узнать в Википедии и в массе других источников. Люда Штерн, по-моему, тоже была с ней знакома, ее семья обреталась в том же 1975-м году в Риме.
Как-то мы с Раисой Львовной Берг и Иосифом пошли пить пиво к фонтану Треви в знаменитое кафе. Там было зеркало за баром во всю стену, и я увидел в него, как Бродский смотрит на нас с Раисой Львовной с нежностью. Странно, что у нас с Бродским нет ни одного совместного снимка [в Италии].

Е. Славинский и Р. Л. Берг на площади Кампидолио у памятника Марку Аврелию. Январь 1975. Фото И. Бродского
Предоставлено Юрием Левингом
Раиса Львовна потом работала в Мэдисоне, позже перебралась в какой-то биологический институт в Париже. Она знаменитый генетик. У нее в Советском Союзе был всегда открытый для нас дом, хотя она ютилась в двух комнатах коммунальной квартиры. Жила она с двумя дочками — Лизой и Машей. Раиса Львовна — дочка академика Берга. Во Франции живут дочь и бывший ученик и сотрудник Раисы Львовны.
— Осенью 1962 года Бродский жил на даче академика Берга в Комарово вместе с художником Яшей Виньковецким.
— Одна из самых замечательных страниц моей римской жизни связана с Яшей Виньковецким. С ним было потрясающе ходить по Риму, потому что он ходячая энциклопедия. Мы с ним и его женой Диной были в 1962 году в экспедиции в центральном Казахстане. Яша был знаком с Иосифом по Ленинграду. Отрывок в письме Мейлаху 1979 года про Яшу: «...В Риме было уютно, и шел плотный поток друзей, знакомых и полузнакомых. Например, Яша Виньковецкий так обалдел от Италии, что правдами и неправдами растянул римские каникулы на полгода. С ним замечательно было ходить по Риму, он так и сыпал датами и фактами, вроде: «На этом мосту в таком году Бенвенуто Челлини во главе отряда папских гвардейцев отражал натиск парашютистов десантной дивизии под командованием виконта Монморанси»... Яша был светлый человек. Его сестра продвигает идею, что его смерть все же была не самоубийством.
В Рим я возвращался каждый год до 1984 года. Язык я выучил после первых трех недель пребывания там в 1975 году и реально помогал всем друзьям и знакомым в качестве переводчика. Последний раз в Италии я был в 1984 году. Я хотел остаться в Италии на самом деле, но там всегда было трудно легализоваться.
Бродский в Лондоне
— Бродский часто навещал Англию. Ваши встречи продолжились и там — после того, как вы покинули Рим?
— Впервые в Лондоне мы увиделись в 1977-м, кажется. Он мне позвонил на работу и привел в Буш-хаус (это тот дом, где было радио ВВС). Мы виделись в Лондоне в 1977, 1978, 1989, 1991 годах.
— Целая глава в вашей жизни связана со службой вещания в ВВС.
— Там были свои плюсы и минусы. В 1982 году я прочел на радио целую серию «Современная русская поэзия в западных публикациях» в 35 частях по 10 минут.
У Бродского есть длинные стихи «Представление», и я их решил нарезать кусками для эфира. Но потом передумал вовсе.
— В Лондоне у него были свои коронные маршруты?
— В этом городе он открыл мне одну «тавалу кальду» возле Блумсбери Сквер, мы там обедали несколько раз. У Машки Слоним были несколько раз тогда. Однажды я его встретил прямо на улице: выхожу из станции метро «Эмбанкмент» и иду по Виллер-стрит, где когда-то жил Киплинг и всегда пахнет жареной рыбой, а навстречу Иосиф. Зимний ранний вечер. И мы полчаса провели в сплетнях. Это был 1977 год, я помню, потому что в том году умер Элвис Пресли. Эту встречу я описываю в письме Найману. В тот момент я был в постоянном контакте с Найманом, он был моим гуру в течение тридцати лет. А у Наймана в это время был период неофитства: он крестился под влиянием Стася Красовицкого. У каждого свои причины на это, я сам чуть не крестился однажды.
Вам еще предстоит ознакомиться со стихами Стася. Бродский его высоко ценил и однажды в беседе со мной во второй половине 1960-х заметил: «Да, Стась нам всем подрЕзал яйца». Понять его гениальность можно только войдя в контекст 1960-х годов. У Бродского замечательные стихи, но ранние стихи его мне не нравятся — там столько воды!
— Где в Лондоне жили вы сами и у кого обычно останавливался Бродский?
— В начале 1980-х мы с ним виделись раза три. Я, уже работая на ВВС, приезжал в Рим несколько раз.
В Лондоне я снимал чердак у Натальи Семеновны Франк [дочери профессора, философа С. Л. Франка. — Прим. Ю.Л.]. Этот дом она купила в начале 1950-х и забрала отца и мать к себе из Парижа. Бродский был у них в гостях как-то. Ему там было невыразимо скучно, и Наталья Семеновна мне о нем говорила как о страшном хаме, потому что он пробыл в гостях недолго и ушел без извинений. Это его характерная черта.
В Лондоне он общался с Лялей, он у нее почти всегда останавливался. У него есть стихотворение, посвященное ее мужу-переводчику Алану Майерсу. Он перевел «Стихи о зимней кампании 1980 года».
Бродский прилично знал Лондон. В 1980-х мы там виделись раз пять. Иногда он останавливался у Марии Слоним. Там было всегда довольно не прибрано, и Бродский однажды оттуда сбежал, оставив записку: «Too much of srach». У нее там всегда месяцами жили какие-то люди — как минимум, там жили две собаки. Бродский не был фанатиком чистоты, но он был довольно аккуратен.
— Вы приглашали его на передачи на ВВС?
— Я взял у него однажды коротенькое интервью. Игорь Померанцев сделал с ним основательное интервью. Я записывал его чтение стихов. Леша Хвостенко его отдельно записал на хорошую аппаратуру, и все это есть в сети.
Конец октября 1987-го, когда он получил премию, я сижу на ВВС, и вдруг входит одна английская коллега и говорит: «Вот, Фима, ты был прав, когда говорил, что вот эту пленку с Бродским нужно приберечь, потому что он того и гляди получит Нобелевскую премию». В этот же день он пришел на ВВС, и Машка [Слоним] заперлась с ним в студии и взяла длинное интервью. Потом он исчез, а когда появился в октябре в 1987-го перед тем, как уехать в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, то собрал всех своих лондонских друзей. Он пришел с каким-то английским поэтом, и Фейт Вигзелл, кроме того, у Ляли Майерс были Маша и ее сестра Вера, и кто-то еще.
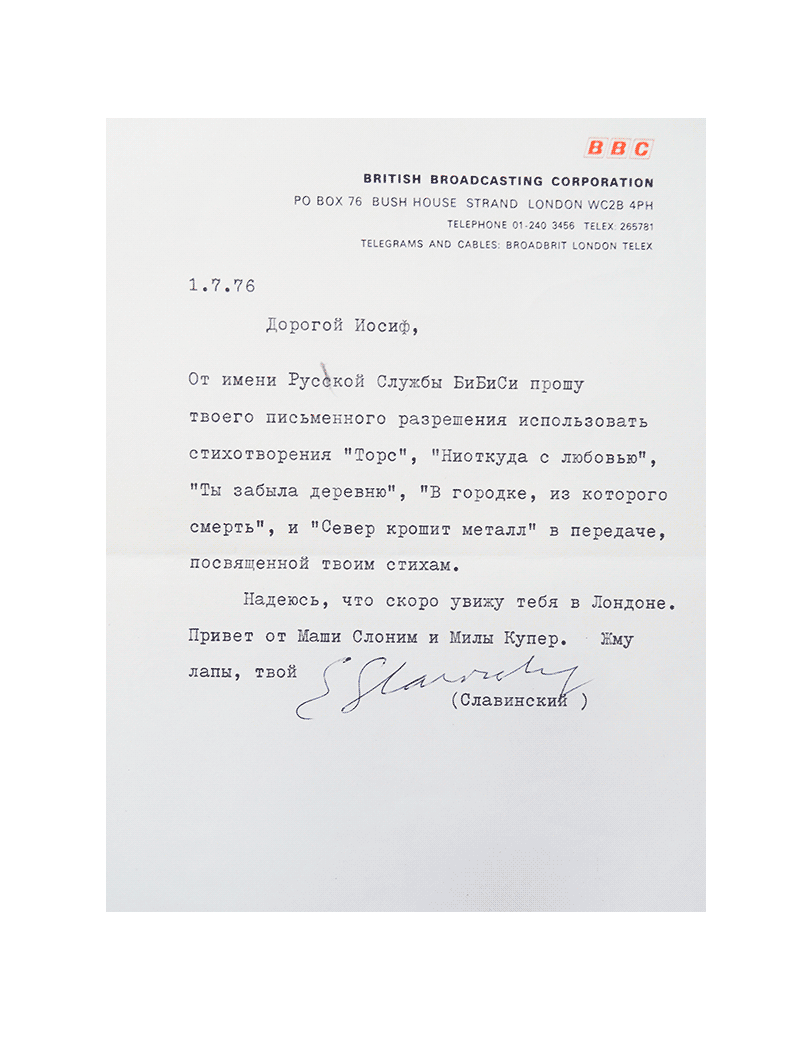
Письмо Славинского Бродскому по делам русской службы BBC. 1 июля 1976
Фото: предоставлено Юрием Левингом
Последний раз я его видел в Лондоне летом 1991 года по какой-то договоренности. Возможно, Найман мне позвонил, потому что у него должна была выйти книга стихов в издательстве Игоря Ефимова [«Эрмитаж»], а Бродский должен был написать к ней предисловие. Найман попросил меня найти Бродского в Лондоне, взять у него этот текст и выслать ему, потому что Иосиф был занят или болен. Я приехал к Ляльке, где он остановился, он вышел меня встречать. А там были двойные входные двери — одна в тамбур, где было две квартиры, а вторая, собственно, в квартиру. Так вот, вторая дверь захлопнулась, мы постучали к соседям снизу и попросили стремянку. Они ему ее дали, мы вышли в сад, сперва я пытался залезть, но он был выше и, в отличие от меня, смог влезть в открытое окно. Я испугался за его сердце, но все обошлось. Он открыл мне дверь, мы сели на кухне и выпили виски.
— Он был бесстрашный?
— Абсолютно. Дикий человек. Он был рабочим в морге и имел дело с трупами в молодости. Я бы не сказал, что он отчаянно храбрый, но тут он проявил смекалку... В 1991 году мы с Бродским посидели, выпили виски. Он дал мне этот экземпляр предисловия с поправками, который я потом выслал. Мы сидели полчаса всего.
Об «ахматовских сиротах»
Евгений Рейн
Конечно, главное влияние на Бродского оказал Рейн, какое-то влияние оказал на него Бобышев. Где-то я встретил высказывание, что «Рейн ему напел всю русскую поэзию». Это довольно точно, потому что Рейн не говорил о поэзии абстрактно, он всегда приводил конкретный пример. Я как-то сказал, что Есенина нельзя воспринимать всерьез, и он тут же процитировал мне гениальную строфу у Есенина.
Рейн писал: «Лучший маршрут — напрямик, напролом». Кто это у кого украл, я не знаю [строка из стихотворения Роберта Фроста «A Servant to Servants» (1914), ср. в оригинале: «The best way out is always through». — Прим. Ю.Л.]. Это из «Vita nova», мои любимые стихи у Рейна [написано в 1970 г. — Прим. Ю.Л.]. Сейчас он исписался совершенно. Процитирую самого себя: «Начались волнения студентов из-за того, что с каких-то пор семинары для студентов стала вести Надька. Она честно привозит на занятия Женю, сажает его в аудитории и вещает сама. Мне не смогли объяснить, в каком он сейчас состоянии, но сама ситуация достаточно наглядна. На что я ей ответил, что это полный сюр, что Надька вытворяет с Рейном. А все от обоюдной жадности. Но она, заметь, серьезно рискует — его может хватить кондрашка прямо по ходу семинара. Героическая кончина, как поэту и положено». Я прислал эту историю Бобышеву, и он мне ответил: «Ну, так на пельмени, видимо, не хватает, как всегда. А вот тебе питерский курьез — Нева замерзла. Такого не случалось с 1970-х годов, когда тот же Рейн провалился напротив Петропавловки по пояс и примчался ко мне сушиться. В процессе сушки выпил мою водку. Галя [Рубинштейн] свидетельница».
Дмитрий Бобышев
Когда Бродского посадили, Дима проявил себя самым лучшим образом. Он написал письмо в Союз писателей, где доказал, что те стихи, которые приписываются Бродскому, не его стихи на самом деле.
Что мне не понравилось, так это то, что, когда Бродский сел, все ему сочувствовали, навещали, я ему послал книги, но Диме объявили неофициальный бойкот. Все бойкотировали, кроме Наймана и меня. Мы с Бобышевым жили недалеко друг от друга, он тогда наконец получил собственную комнату на Петроградской.
— То есть Бродский нормально отнесся к тому, что вы продолжили общение?
— Да, конечно. Мы, когда встретились в Риме в первый раз и я ему рассказал, что Дима осуждает Бродского в стихах — «Кто рвал платочек в истерике среди доцентских дочек?», Бродский ответил: «Митяй все еще переживает за ту историю?» На этом обсуждение и закончилось. У нас были другие темы для разговора — стихи, джаз, Америка. Бродский говорил как-то, что в те годы мы были больше американцы, чем самые американцы. В своем эссе «Трофейное» он развивает эту тему.
— Вам нравится то, что сейчас пишет Бобышев?
— Стихи оставляют равнодушным, а с его прозой у меня сложные отношения, потому что он там привирает много. Он приписывает людям высказывания и приводит прямую речь, которую он физически не мог запомнить. Найман, когда писал свои воспоминания об Ахматовой, писал очень осторожно, избегая прямой речи, в которой он не уверен. У меня с Бобышевым по этому поводу были трения.
Есть небольшой пример. Мы с ним вместе в 1982 году оказались в Милане на конференции «Дель Диссенцио» — сборище русских диссидентов, организованное Владимиром Максимовым. Там были все — от генерала Григоренко до Наташи Горбаневской. Был пиковый момент Холодной войны, роскошный отель, огромная компания. Бобышев был приглашен, а я сам пришел. Они все прилетели одним рейсом из США, и я подумал, что если бы самолет рухнул... Я тогда же познакомился с Парамоновым и Алешковским. Я поставил им пиво с условием, чтобы Алешковский подарил мне доллар с автографом. Бобышев благодаря мне повидал Венецию и Рим. Вот мы на этой конференции, и Бобышев знакомится с Юрием Гальпериным и Михаилом Генделевым. Мы с Бобышевым собирались уже идти на поезд и ехать в Венецию, но он говорит, что Гальперин предлагает нам вчетвером ехать на его машине, если мы скинемся на бензин. У меня были сомнения на этот счет, потому что я знаю, что им в Венеции негде ночевать и их мы не можем привести к моим итальянским друзьям. Так вот, в итоге они ночевали в машине. А у Бобышева в воспоминаниях описано это так, что, мол, мой друг Славинский говорит, что он только что договорился с Генеделевым и Гальпериным и т.д. Вот так по мелочам присочиняет.
На этой конференции Бродского не было. Это было заметно — так же, как и отсутствие Синявского.
— А что в кулуарах говорили о Бродском?
— Кто-то его любил, а кто-то нет. История вражды Бродского и Бобышева хорошо документирована. Меня она никогда не интересовала, и никого бы не интересовала, если бы Бобышев ее не раздувал.
Я писал кому-то про Бобышева: «По линии гражданской чести он проявился безупречно сразу после фельетона в Ленправде, в котором приводились три цитаты из его стихов, выдаваемые за стихи ИБ. Очень неряшливая стряпня Лернера и гэбухи. Бобышев направил в Ленотделение Союза писателей суровое письмо протеста. Впрочем, перечитай лучше ту часть его мемуаров, которая в 11 номере октября за 2000 год. Если бы не арест, суд и ссылка, все бы устаканилось. Вся эта история с Басмановой не превратилась бы в роман века. Не могу я всерьез отнестись к этому конфликту взбесившихся самцов. Подумаешь, бабу не поделили. В этих делах выбирают женщины, не правда ли? Кстати, Ахматова, до которой успели дойти пересуды, высказывала недоумение, почему это все говорят Дима, Ося, Ося, Дима, а где же Марина? Что она себе думает? А она ничего не думала. От нее не осталось ни единого слова и один посредственный снимок в сети».
Ахматова к этому треугольнику века относилась скептически.
Дима подвел Бродского... Чушь все это! А как себя вел Бродский? Резал театрально вены и ходил по всем домам жаловаться на судьбу в засаленных бинтах.

На обломке капители римской колонны. Фото И. Бродского. Январь 1975
Предоставлено Юрием Левингом
Анатолий Найман
У Иосифа были периоды [дружбы с разными людьми]. Например, был период до ареста в году в 1962, когда у них с Найманом была просто любовь: они встречались каждый день, при этом оставались на «вы».
Найман невероятно на меня повлиял. Мы познакомились в 1958-м, а в 1974-м я уехал (меня удерживало то, что я был полтора года отказником по еврейскому вызову). Он меня разочаровал, но это никак не повлияло на мое отношение к его прозе. Самую лучшую книгу он написал о Берлине, это роман «Сэр». Тридцать лет он был моим третьим по счету гуру, вторым был Фима Барбан. Он был моим гуру с 1954-го по 1956-й. Гуру — это не друг, а наставник, тот, кто вне критики. Фима живет в Лондоне, в трех остановках метро от меня, он работал на ВВС.
Найман приобщился к приземленному христианству вместе со Стасем Красовицким: козы, огород, дети и т.д. Вот я это все излагаю, а Бродский меня перебивает и спрашивает: «Кто у них там сейчас главный?» Я говорю: «Серафим Саровский». Сказал я это просто так — ляпнул, по сути. На следующий день приходит Машка на работу [на радио] и показывает мне открытку, которую Бродский написал Найману. На открытке изображен Элвис Пресли, опирающийся о рояль, а с обратной стороны такой текст:
Дорогой Анатолий Генрихович,
Посмотрите, кто умер!
Элвиса Пресли прибрал всемогущий Бог,
и Серафим Саровский нового собеседника приобрел,
и сказал Серафиму Элвис:
You ain’t nothing but a hound dog
just rockin’ all the while and roll.
Джозеф энд Мэри энд их бритиш кореш сидят в пивной,
у Серафима — нимб, у Элвиса — ореол,
а у Джозефа — плешь и этому жизнь виной.
Just rockin’ all the while and roll.
Виски для человека, как для пореза йод.
У Джозефа был инфаркт, но он это переборол.
Элвис не пьет, и Серафим не пьет
Just rockin’all the while and roll.
Mary hasn’t remarried and Joseph, увы, не смог
Серафим был холост, а Элвис — тот был орел.
You ain’t nothing but a hound dog
just rockin’all the while and roll,
just rockin’all the while and roll.
just rockin’ all the while and roll.
You ain’t nothing but a hound dog, так что лай, как все.
Элвис говорит Серафиму — ну, я пошел.
«Cаледующая сатанция — Димитровское шоссе».
Votre сильно SkuCharlie.
Замечательные стихи. Маша показала это мне, и я снял фотокопию. И это хорошо, потому что Найман открытку не получил. Эти стихи я позже перепечатал и послал в письме Найману.
Америка Бродского
Я был один раз в Америке в 1979 году с Анной Дони. Мы пошли тогда к Бродскому в гости на Мортон-стрит, и он повел нас в сычуаньский ресторан. Потом он посадил нас в свой «Форд Матадор» и повез на Бруклин Хайтс, откуда хорошо видно Нью-Йорк.
— Он любил Нью-Йорк?
— Да, он кое-что понимал в Америке. По давности знакомства мы были друзьями, по регулярности — знакомыми. Мы виделись редко, но всякий раз интенсивно. Лифшиц (Лев Лосев), наверное, был его другом.
В мою последнюю встречу с Бродским, я его спросил, кого бы он посоветовал из молодых поэтов. Но он перевел разговор. Я только по слухам знаю, что он ценил Гандельсмана, но таких поэтов десятки. Мне нравятся стихи Марии Ватутиной. Это явное подражание одному стихотворению Бродского, но сами стихи классные: «С чужими не разговаривай, жизнь у тебя одна...».
— Но в Америку в итоге вы жить так и не переехали?
— Меня не пускали в США, потому что у меня была судимость по наркотической статье в России, и я не стал об этом врать в анкетах. У меня были безумные идеи: я собирался приплыть туда нелегально в качестве кочегара в порт Гальвестон в Техасе. Меня отговаривали от этой глупости. В письме от 1 августа 1975 года Бродский писал мне, что «нанят адвокат, который роет землю во всех возможных направлениях», и добавлял: «На той неделе увижусь с сенатором Бакли, постараюсь на него нажать. Насчет башлей — заткнись раз и навсегда. Я думаю, что удастся сдвинуть дело с мертвой точки. Второе — где-то там в ваших краях обитает Нэнси Шилли. Ее можно найти через Ирину Керк и сказать при этом такие слова: „пускай приезжает в Энн Арбор, а башли мы найдем“. Стишки для тебя новые и старые подошлю, как только руки дойдут. Дай Марамзину телефон Джанни Буттафавы и введи его в контакт с Сильваной [де Видович], которой — поцелуй».

Славинский у себя дома в Лондоне. 2018
Фото Ю. Левинга
— Кто такая Нэнси Шилли?
— Это моя коллега. Я работал в ХИАСе — это еврейская контора, помогающая перебираться в США. Нэнси прекрасно говорила по-русски. В письме от 27 февраля 1975 года Бродский предупреждал меня не рыпаться пока в Госдепартаменте хлопочут насчет моих дел. Если ты совершил одну ошибку, то это не значит, что надо совершить другую, говорил Бродский. Планировалось, что сначала я приеду в Канаду. «И ради Бога, не переходи границу пешком. Ее надо переезжать на автомобиле», пытался вразумить меня Иосиф и добавлял, что в марте в Италию «поедут две Мичиганские чувихи. Одна из них — Нэнси Бэверэдж — совершенная прелесть, и я дал ей твой адрес, если ты еще будешь там. Их водить по Риму тебе будет приятнее, чем пожилых израильтянок или даже Раису Львовну. Кроме того, Максимов обещал подкинуть тебе работенку. Пошлю тебе завтра башли. И не откладывай их для братана, так как не известно, когда он ими сможет воспользоваться».
Как я писал в свое время Мейлаху, в Англии я нашел работу и втайне радовался, что буду жить в Европе, и после восьми недель в Штатах понял, что правильно вышло: «Ю Эс Эй для молодого, полного сил человека. А чтобы в Манхэттене жить, так надо быть титаном духовно и физически. Потом, в гражданском смысле я европеец».
— Между прочим, живя в одном европейском городе с Валентиной Полухиной, вы почему-то так и не дали ей интервью.
— Никогда, хотя я ее давно знаю по Лондону. Как-то не приходило в голову. Однажды мы с Найманом поехали к ней в гости, когда она еще преподавала в университете на севере Англии. Она замечательно принимает, угощает, и вот мы все время говорим про Бродского да про Бродского, а Наймана это корежит. И вдруг она спрашивает нас: «Когда вы впервые поняли, что перед вами гений?» Я расхохотался, а Найман говорит: «Вблизи невозможно понять, гений перед тобой или нет». Он прав абсолютно. Тут аберрация близости. Скажем, ясно, что Данте — гений, но это ясно сейчас, через пятьсот лет. Или Пушкин — он гений, а насчет Блока я уже не уверен. Гений — это нечто потустороннее, не от мира сего. Я видел гениев, дважды у меня было ощущение гениальности человека. Это был Стас Красовицкий — когда я впервые прочел его стихи в Ленинграде примерно в 1960 году, то понял, что он гений, да и все почувствовали этот сквознячок потустороннего. И второй раз — это была Лена Шварц. Ей было пятнадцать лет, когда я с ней познакомился. А Бродский? Ну, какой же он гений, мы с ним пиво выпивали на днях.
— Похожий эффект описывала Татьяна Яковлева, жена Алекса Либермана, когда утверждала, что встречала в жизни двух гениев — Маяковского и Бродского.
— Ну Маяковский разве гений? Он, пожалуй, в третьем ряду.
— Что-то ваш «гамбургский коврик» слишком узок. И где же располагается по прошествии лет Бродский?
— Бродский — в первом ряду.
Послесловие Юрия Левинга
Со Славинским мы познакомились, когда я собирал материалы для книги «Иосиф Бродский в Риме» (готовится к печати петербургским издательством Perlov Design Center), поэтому мы довольно подробно говорили именно о римском периоде Бродского. Сначала я звонил Ефиму по телефону, потом навестил его в Лондоне. Переписываться ему было трудно, но и письменный, и устный стиль изложения «главного битника» Ленинграда шестидесятых годов прошлого века был неизменно узнаваемым («Я только что вернулся из больницы, накачанный стероидами, от которых дрожат руки и физически тяжело печатать, а то бы я вам написал все, что помню о встречах с И.Б. в Риме. Если вам интересно, позвонИте мне на халяву, если получится, или reverse charge’м, в любой из ближайших дней, когда вам удобно, но не позднее 11 вечера по лондонскому времени»). Во время нашей лондонской встречи Славинский говорил сначала с сильной одышкой, потом разошелся, и под конец никак не хотел меня отпускать. Метро, к сожалению, закрывалось, и нужно было возвращаться в центр. На пороге, прощаясь, хозяин вручил мне книгу о Бродском Дэвида Бетеи с памятной надписью — по дате сейчас вижу, что это было 12 апреля 2018 года — а также папочку с ксероксами писем к нему Бродского, копиями нескольких автографов стихотворений и оригинальными фотографиями из Рима. Еще вдруг неожиданно выяснилось, что в годы далекой киевской юности Фима был одноклассником Омри Ронена, его «первого гуру». Уже в преклонном возрасте они наладили переписку, и о Славинском есть косвенные упоминания в «Из города Энн». Мы собирались посвятить отдельный диалог памяти выдающегося филолога, письма которого он мне также переслал, а я ему — свой текст о Ронене из подборки In Memoriam в Toronto Slavic Quarterly, вызвавший у него эмоциональную реакцию: «За некролог большущее спасибо! Нет, правда! Это первый класс! Как это я проморгал!? Зато теперь подписываюсь под ним обеими руками». Мне жаль, что публикуемая здесь беседа ретроспективно оказывается своеобразным автонекрологом самого Фимы. Благодаря цепкой памяти Славинского и практической помощи их общей с Бродским итальянской подруги Сильваны де Видович, неоднократно упоминаемой в интервью, позже удалось обнаружить тот самый автограф Бродского, оставленный им в книге посетителей знаменитого римского Кафе Греко, где за полтора десятилетия до него расписалась Анна Ахматова.