Русская скрипка в мировом оркестре: история первых переводов русской классики
16 июня 2021 ● "Горький"
Как европейские современники Толстого и Достоевского принимали их романы.
В XIX веке европейский читатель изо всех русских авторов хорошо знал разве что Тургенева. Другие писатели, которых мы считаем безусловными классиками, долго воспринимались в лучшем случае как талантливые продолжатели дела французских, немецких и английских коллег. Михаил Берг — о том, как появились первые переводы Достоевского и Толстого, как их принимала западная публика, и о том, почему успехи русских классиков были вызваны причинами, увы, не культурными, а сугубо экономическими.
Одна из самых русских иллюзий — пространство. Интерпретация его как огромного, причем не столько в физическом, сколько в психофизическом плане. Пространства на самом деле так много, что это ощущение бескрайности, бесконечности рождает ощущение самодостаточности. Три дня скакать — не доскачешь.
Эта протяженность, временные пояса, большое число незнакомых людей инициируют географический патриотизм, ложное ощущение силы, защищенности и разнообразия. Мол, так много необъятного пространства, на просторах которого обитает столько национальностей, столько разных характеров, что это не может не порождать физическое и человеческое разнообразие. А разнообразие, перепад физических и культурных высот и есть потенциал сложности и разнообразия обихода и культуры.
Конечно, есть вещи, которые досаждают c публицистической надоедливостью: если в культурных свершениях носитель русского языка не сомневается, то вот в области цивилизации все далеко от удовлетворения. И изнанка всех этих регулярных приступов национального бахвальства, когда Россия тщетно пытается оспорить у других культур первенство тех или иных технических открытий, намекает на комплекс неполноценности. Если вы изобрели фотоаппарат, интернет, телефон и автомобиль, вам вряд ли придет в голову спорить об изобретениях прошлого, которое только в идеологической прибавочной стоимости способно соревноваться с настоящим.
Традиционно в качестве объяснения очевидного технологического отставания (которое вступает в противоречие с преимуществами пространства и его разнообразием) используются понятные объяснения: от традиционно холодного климата, по версии В. Ключевского, до тупикового советского периода, отбросившего Россию на три четверти века назад, от доминирующей в быту, по Бердяеву, безрадостности и придавленности до перекоса в русской цивилизации, когда интересы развития государства традиционно приоритетны по отношению к развитию общества. Типа государство хуже изобретает условный велосипед, нежели человек и его группы, из которых состоит общество, обитающее в традиционной тени русского государства.
Но упрек, что русский человек и не столь приспособлен к техническим открытиям, легко парируется утверждением, что русская культура, функция от разнообразия человеческого и природного материала, способна выдержать любую конкуренцию и является источником непрекращающейся за века гордости.
Так ли это? Если не взбираться на котурны, то при строгом взгляде на проблему может показаться, что всего несколько раз за тысячелетнюю историю русская культура реально оказывалась интересной за своими границами. Литература и отчасти музыка в последние десятилетия XIX века, живопись первой четверти XX века и опять же литература; а также (хотя и в меньшей степени) — живопись, а точнее — изобразительное искусство 70–80-х годов прошлого века.
Но прежде чем разбираться с тем, так ли это, имеет смысл уточнить принципиальную разницу между обиходным пониманием культуры как своеобразного конкурса эстетических достижений и пониманием культуры как явления социального.
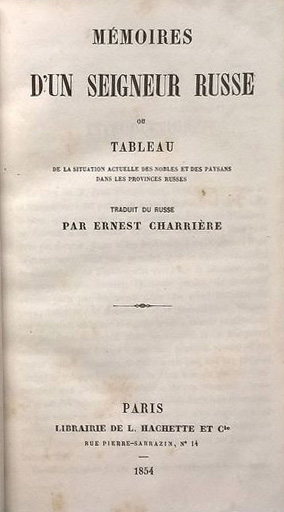
Авантитул первого издания французского перевода «Записок охотника» И.С. Тургенева, 1854 (в переводе — «Записки русского барина»). Перевод: Эрнест Шаррьер (Тургенев вынужден был публично протестовать против недоброкачественного перевода)
Потому что если использовать при рассмотрении культуры ее эстетическое значение, то сразу обнаруживается несколько противоречий. Культура, понимаемая как коллекция эстетически значимых вещей, оказывается вне более-менее корректных критериев оценки. Понятно, что эстетическая критика существовала и существует, но она, скажем так, субъективна. И удобна для успокаивающих попыток определения культурной значимости. Российский читатель естественным образом оценивает русскую классику (во многом потому, что проходит ее в школе) как обладающую общепризнанным и непререкаемым мировым авторитетом, потому что не сомневается в ее очевидном для нас эстетическом, художественном значении. И если кто-то утверждает, что эта классика, как, скажем, поэзия так называемого золотого века русской поэзии, практически не вышла за пределы русской культуры, то это не наша проблема, а проблема эстетической глухоты и нечуткости со стороны посторонних иноязычных наблюдателей. Или отсутствие конгениальных переводчиков.
А вот если эстетические переживания оставить в области психологического и пытаться оценить те или иные культурные явления по социальному измерению, то появляется бóльшая область пересечений разных культур, которые заимствуют друг у друга приемы и инструменты. А самое главное — применяют эти инструменты в личных или общественных целях вне зависимости от того, нравится ли тот или иной прием, если он может помочь в личной или групповой конкуренции.
И тогда так называемый золотой век русской поэзии (Батюшков, Жуковский, Пушкин, Боратынский, etc.) оказывается вершиной исключительно в русской культуре. И не выходит за пределы интересов славистов во всем мире и еще в меньшей степени культурологов и компаративистов. Для русской культуры очевиден вклад этих поэтов в развитие как поэтического языка, так и вообще русского языка. Но для других культур, рассматривающих эти явления в переводе на другие языки, русские стихи и их авторы оказываются в тени тех, кто повлиял на них, а вот обратное влияние или отсутствует, или остается несущественным.
В культуре важен принцип отсечения избыточности. Если что-то уже существует как концептуальное явление в хрестоматии мировой культуры, то она с помощью разных механизмов препятствует добавлению в эту хрестоматию чего-либо идентичного и, значит, лишнего. Своеобразная прагматичность в отборе и составлении архива по типу Ноева ковчега.
Поэтому и важность того или иного явления в локальной культуре далеко не обязательно имеет отношение к соответствующему резонансу за ее пределами. Здесь необходима поправка на явление так называемого европоцентризма, когда всего несколько европейских культур (их развитие и влияние на другие культуры) определяли на протяжении столетий (и даже тысячелетий) приоритет и акценты внимания. Если останавливаться на XIX веке, то это, прежде всего, английская, немецкая и французская культуры, они определяли направленность и моду, в то время как восточноевропейские чаще следовали в фарватере и перенимали достижения и тренды доминирующих культур. Здесь ничего нельзя сказать в терминах хуже-лучше, но влияние одних культур на общепринятые европейские явления больше, других — меньше в определенные исторические периоды, в то время как у третьих влияние на развитие европейской цивилизации незаметно. Не потому что они хуже, а потому что магистральная линия не придавала им значения по тем или иным причинам. А если и обращала внимание, то только в тех случаях, когда та или иная культура начинала принимать участие в общественной или политической жизни Европы. Причем брала на себя роль, совпадающую с общим трендом, как движение весел по течению, а не в противоречие ему.
В рамках комплиментарной критики интерес мировой культуры к русскому роману в последние десятилетия XIX века (или к неканоническим явлениям в поле советской культуры в 20–30-х годах XX века) объясняется эстетическими достоинствами и новаторством этих произведений. Понятно, что национальная гордость очень часто стремится преувеличить значимость собственной культуры и преуменьшить значение и вес остальных. Русская здесь не исключение. По поводу влияния русской культуры на мировую и ее авторитета существует целый ряд мифов. Широкого читателя периодически знакомят с каким-нибудь очередным рейтингом от BBC или другого авторитетного издания, где с гордостью отмечается, что роман «Война и мир» или «Преступление и наказание» попал в рейтинг 100 наиболее читаемых книг в мире. И это легко ложится в колею подобных приемов, которые помогают носителю русской культуры пребывать в убеждении, что наиболее известные отечественные писатели и поэты столь же признаны в Европе и мире, как и на родине, и это признание было практически синхронно их появлению на книжных полках отечественных книжных магазинов; таких приемов немало.
Представляется, что выход в свет, скажем, романов «Анна Каренина» или «Братья Карамазовы» становился чем-то вроде публикации очередного тома Джоан Роулинг, а раньше — Агаты Кристи или, на худой случай, Фредерика Бегбедера. Восторженные рецензии во всех крупных мировых изданиях, очереди в книжных магазинах не только Москвы и Петербурга, но Лондона и Парижа. Но это не так. Не было никаких статей в Лондоне или Берлине, то есть вообще ни одной. И не было не только синхронных переводов и очередей среди восторженных читателей, а вообще не было никаких переводов. То есть у Достоевского не существует ни одного прижизненного издания перевода ни одного его романа, кроме весьма огорчительной попытки издать его «Записки из Мертвого дома» в 1864 году в Лейпциге. Роман был выпущен под анонимным именем переводчика «Герман», и это издание оказалось настолько неинтересным немецкому читателю, что с трудом было распространено около 50 экземпляров, в основном разосланных известным критикам и писателям, так и неоткликнувшимся, а остальной тираж был продан на макулатуру.
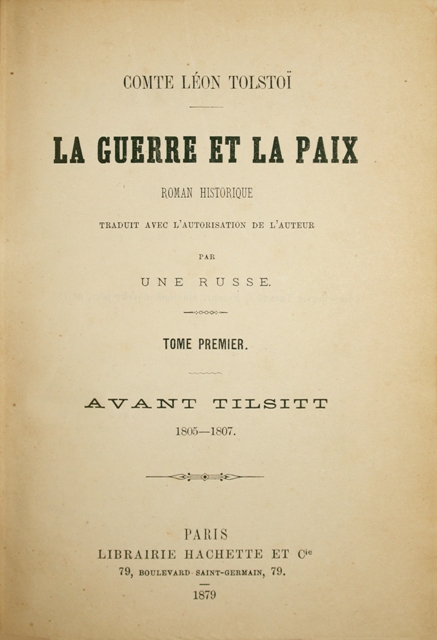
Авантитул первого издания французского перевода «Войны и мира» Л.Н. Толстого, 1879. Перевод: «одна русская» (И.И. Паскевич)
Не менее отчетливым отсутствием интереса были окружены и романы Толстого. Единственным переводом за четверть века после выхода в свет «Войны и мира» стал непрофессиональный перевод на французский, вышедший в Петербурге с упоминанием, что перевод публикуется с разрешения автора, а вместо имени переводчика значилось «одна русская». Переводчиком была княжна И. И. Паскевич, приятельница Я. Полонского, пытавшегося продвигать Толстого. «Одна русская» на свой страх и риск перевела самый знаменитый русский роман, существенно, однако, сократив и изменив его. Ее взгляды не вполне совпадали с авторскими, и она опускала по своему разумения те или иные оценки, прежде всего — философские отступления, исправляла и корректировала фрагменты. И этот более чем несовершенный перевод послужил впоследствии основой для всех остальных переводов «Войны и мира» на европейские языки и продержался в таком статусе почти сто лет. Еще в 1956 году он выходил с роскошным предисловием Андре Моруа.
Причины отсутствия интереса к русским романам писателей, которые сегодня именуются великими, вообще к русской культуре — прост. Европейская культура, в которой в XIX веке доминировала немецкая, французская и британская, сомневалась в оригинальности русских произведений. В Европе был известен только Тургенев, да и то прежде всего из-за личных связей, он долгое время жил в Германии, потом во Франции, дружил с известными писателями, и эти личные обстоятельства способствовали его переводам на другие европейские языки. На протяжении нескольких десятилетий с середины XIX века Тургенев в одиночестве представлял русскую культуру. Однако то, что причинами интереса к нему были личные связи, в результате и сыграло с ним дурную шутку: к концу века его значение было объявлено преувеличенными, а его проза архаической и старомодной. Разбираться в перипетиях отношений «новых» и «старых» людей в пореформенной России, то есть в весьма символической и невнятной для иностранца борьбе с российским самодержавием, оказалось неинтересным.
Первое издание перевода Достоевского на немецкий вышло уже после смерти писателя, в 1882 году, опять в Лейпциге, но теперь это был уже перевод «Преступления и наказания», вышедший под названием «Раскольников». Хотя издателем являлся Вильгельм Фридрих, на самом деле своими деньгами решил рискнуть переводчик Вильгельм Хенкель. Так как он не смог, как ни искал, найти издательство, готовое выпустить его перевод, он убедил издателя опубликовать книгу за его счет, предлагая всю возможную прибыль, если она будет, разделить, а риск взять исключительно на себя.
Отчего русский писатель с судьбой, в которой много таких лакомых деталей, как преследование со стороны правительства, каторга, успех на родине, наконец, — вызывал недоверие? Это было общее отношение к русской культуре, которая считалась вторичной. Одним из первых и наиболее афористично это высказал Жан-Жак Руссо, охарактеризовав в своем знаменитом «Общественном договоре» современную ему русскую культуру как «le génie imitatif», то есть сугубо подражательную. И в разных версиях эта оценка была доминирующей и определяющей отношение к русском романам и стихам со стороны потенциальных издателей и критиков. Так Р. Л. Стивенсон писал другу о романе Достоевского в 1886 году, отмечая бессвязность романа и добавлял: «Многие находят его скучным: Генри Джеймс не смог его закончить». Сам Генри Джеймс, друживший с Тургеневым, к Толстому и Достоевскому относился скептически, для него это была та категория русских романов, которую он определял как «жидкие пудинги» (fluid puddings) и «большие, рыхлые, мешковатые монстры» (loose, baggy monsters).
На самом деле русская культура была начинающим игроком и, естественно, очень много заимствовала. Это, конечно, проявлялось в разных жанрах, но в поэзии, где прием более обнажен, намного отчетливее. Русская культура, столь ценящая свою поэзию, в том числе Пушкина, так и не сумела убедить иностранного читателя в ее самобытности. Русского читателя далеко не всегда смущало, что определенные приемы, знакомые ему по чтению иностранной литературы (такие как лирический герой-протагонист, тема противостояния личности и общества и система образности), имеют легко определяемых предшественников среди французских, английских, немецких поэтов, так как та или иная коллизия обсуждается на живом, проявляющемся на глазах русском языке, который еще не пробовал таких созвучий. Однако при переводе игра языка терялась, зато все заимствованные приемы выпирали как приговор: зачем читать какого-то русского подражателя Байрона и Шенье, если их можно читать в оригинале?
Это представало проблемой, очевидной и для самых доброжелательных критиков с патриотическим темпераментом. Бриан Байер обращает внимание на высказывание Владимира Соловьева о том, что русская литература по сути дела началась с перевода Жуковским в 1802 году стихотворения Томаса Грея «Элегия, написанная на деревенском погосте».
В русской культуре как догоняющей действительно много подражательного. Скажем, Крылов подчас просто переводил на русский басни Лафонтена и считается классиком, в том числе потому, что его басни используют русские обороты и остроумную игру слов из отечественного обихода. М. Л. Гаспаров, анализируя указанную особенность русской поэзии, когда отечественная культура то вместе со всей страной пропадала на десятилетия в тени изоляционизма и национальной обиды, то опять появлялась на поверхности и пыталась быстро сократить отставание, называл ее «конспективной лирикой». Русские стихи очень часто представляли собой своеобразный конспект, реферат по стихам, побудившими поэта к вдохновению. Но то, что с восторгом воспринималось носителями языка, благодарными автору за работу по координации русского слова, иноязычными жителями почиталось за несамостоятельность и, значит, продукт низкой, украденной стоимости.
Конечно, проза имеет по крайней мере сюжет, развитие характеров и социальную перспективу, которую автор всегда приспосабливает к своему произведению, но и в случае такого жанра как роман найти источники вдохновения было не трудно. Дело не в том, что существуют произведения полностью оригинальные, заимствование приемов есть в любом произведении, в противном случае оно не будет узнано как произведение и не попадет в рамки определенного жанра. Но в случае с русской прозой иностранным читателям долго казалось, что подражательного, вторичного намного больше, чем оригинального, и последнее не в состоянии искупить первое.
Тот же Достоевский легко прочитывался как последователь Диккенса, Жорж Санд, Бальзака (не случайно его творческая биография началась с перевода им романа Бальзака «Евгения Гранде»), Гюго, Гофмана и других романтиков, влияние которых в разное время может быть определено разными коэффициентами. Еще одним из наиболее частых упреков в отношении к русским авторам, в том числе Достоевскому и Толстому, было многословие, которое представало пространством избыточных объяснений, размывавших жанр и служивших, возможно, комментарием к заимствованному. Это избыточное многословие покрывало все мелкой сетью лишних слов, однако не утаивало стилистического цитирования и вышивания по канве.
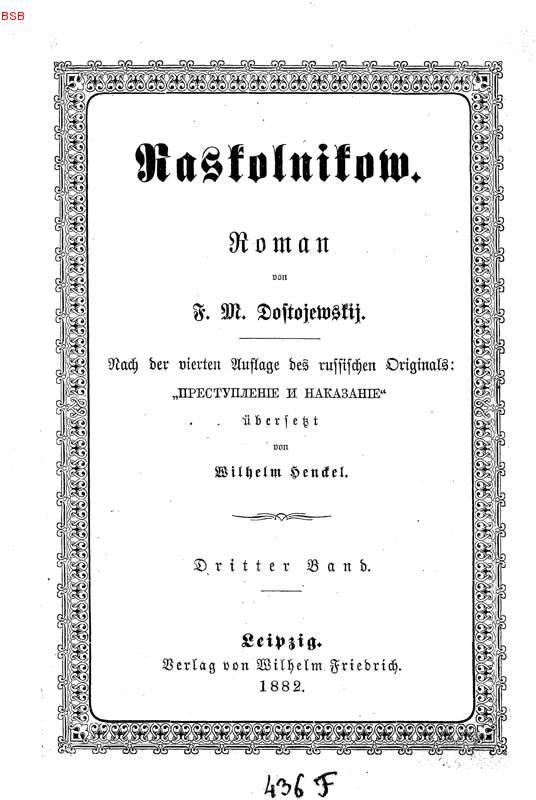
Авантитул первого издания немецкого перевода «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского (в переводе — «Раскольников»), 1882. Перевод: Вильгельм Хенкель
Если же вернуться к «Раскольникову» Вильгельма Хенкеля, который таким образом представил немецкую версию романа «Преступление и наказание», то здесь, как и в случае с переводом «Войны и мира», следует отметить, что переводчик брал на себя функции редактора и во многом соавтора, сокращая текст, делая его более энергичным, а также отчасти цензурировал. Так, например, произошло с присутствующей в романе немецкой темой, которая выставляет героев-немцев не в лучшем свете. Переводчик, дабы угодить читателю, отчасти убирал, отчасти видоизменял вызывающие сомнения места. А акцент делался не на религиозно-нравственных исканиях, а на понятной и интересной читателю социальной подоплеке. То же самое противостояние униженных и оскорбленных, подробное бытописание из жизни нижних социальных слоев (что узнавалось и прочитывалось как парафраз к тематике Диккенса и Гюго) интересовало и немецких читателей.
Этот перевод (или авторизованный перевод с редактурой), как и в случае с переводом «Войны и мира», стал во многом каноническим. Не с русского оригинала, а именно с немецкой версии в дальнейшем делались переводы на другие языки, потому что русских писателей стали переводить не только на доминирующие в Европе конца XIX века немецкий, английский и французский языки, но и на восточноевропейские. Славянские страны с некоторым промедлением и подчас куда с меньшей охотой, если сравнивать с французами и немцами, решились на перевод русских романов; хотя поляки и болгары больше знали о русской культуре и Достоевском в частности, но их смущали определенные мировоззренческие аспекты. Впрочем, как только переводить и издавать стало выгодно, сомнения были отброшены.
Здесь можно вскользь отметить характерное для русских писателей, начиная уже с Фонвизина, и, конечно, присутствующее у Достоевского, антизападничество. И хотя у русского антизападничества несколько разных мотивов, об одном имеет смысл вспомнить и здесь. Для слоя, говорящего преимущественно на французском и перенимающего разнообразные культурные приемы в Европе, безусловная травма — ощущать полное и ненаигранное безразличие со стороны европейской культуры. То есть русский писатель не только в XVIII, но в XIX веке ощущал себя писателем только на родине и при записи в гостинице, но за этими пределами уровень признания заканчивался. То есть та культура, которая была источником вдохновения и ремесла, лишала корпоративной легитимности, естественной для любой корпорации. И это если не всегда источник, то всегда дополнительный катализатор тех антизападных настроений, которые в разной степени разделяли многие русские писатели.
Тем более принципиален ответ на вопрос: что должно было произойти, чтобы один из романов писателя, с позором отвергнутый без малого двадцать лет назад, неожиданно оказался настолько популярным, что стал источником легитимности для всех остальных наиболее известных русских писателей, так как открыл для них дверь в Европу? Ибо после успеха «Раскольникова» возник запрос на других русских, и в эту открывшуюся для них возможность успели войти и Толстой, и Чехов, и даже писатели второго ряда, пока дверь опять не закрылась, но это уже другая история.
Что изменилось? Самый простой ответ: франко-прусская война. До войны французы и немцы — две наиболее продвинутые и модернизированные нации (после Британии), которые вполне комплиментарно относились друг к другу. И, как следствие, переводили друг друга и издавали в приоритетном порядке. Но после войны рассорившиеся нации потеряли возможность для былого энергичного культурного обмена, как следствие — французские издательства перестали переводить и публиковать немецких авторов, а немецкие — французских. И возникла пустота в издательско-переводческом бизнесе, которую надо было заполнять, и после неожиданного успеха «Раскольникова» (а его успех тоже следствие послевоенной ситуации) возникла возможность заработать в этой паузе на русских.
Тем более что издание сопровождалось вполне современной рекламной кампанией, переводчик Хенкель не только перевел и профинансировал «Раскольникова», но и всемерно продвигал свое издание. В качестве критика он опубликовал статью в Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, в которой подчеркивал благотворительную и психологическую ценность Достоевского. Что еще более важно, он разослал более сотни экземпляров своего перевода известным прогрессивным писателям и критикам того времени, включая Хейзе, Гроссе, Фрейтага, Эберса и Брандеса — всем, кого он считал способными привлечь к Достоевскому немецкого читателя.
Следующей причиной успеха русских романов стоит назвать литературную борьбу. Последняя четверть XIX века — время изменения приоритетов, на смену натурализму и реализму (Золя, Мопассан) приходит довольно быстро обретающий модный статус символизм. И тут открытие русских писателей стало подспорьем в литературных баталиях, потому что русские авторы интерпретируются как использующие пусть устаревшие для европейской сцены литературные приемы (Достоевский относится отчасти к романтической, отчасти к реалистической и натуралистической школе, Толстой, как ученик Флобера, к психологическому и опять же натуралистическому роману), но это позволяет использовать их как аргумент теми силами, которые пытаются противостоять наступавшему символизму и модернизму.
Еще более долгоиграющим аспектом интереса к русским авторам становится актуальная политика, а точнее то, что Россия оказывается родиной мирового терроризма, нового радикального приема политической борьбы с казавшимися незыблемыми основами политического устройства империи, еще вчера считавшейся мировым жандармом. Это постепенное превращение России из политически наиболее отсталой страны с консервативно-феодальным политическим устройством в арену наиболее непримиримой политической борьбы между государством и его противниками из общества — представляется сначала факультативной сферой интереса к русской культуре, а затем и одной из основных. А после революции 1917 года и прихода к власти наиболее радикальных в Европе политических сил — в доминирующий источник интереса, любопытства к культуре, в рамках которой совершался впечатляющий социальный эксперимент. Вне знака отношения к происходящему в советской России (то есть почти в равной степени затрагивающих как левых, симпатизирующих происходящему в России, так и правых, использующих Россию как полюс дистанцирования) именно политический аспект становится магистральным для отношения к культуре страны с наиболее радикальным политическим устройством. В разной степени это было полюсом внимания, вплоть до перестройки, поставившей крест на социальном эксперименте и очень быстро задвинувшей Россию в статус второстепенных и архаичных европейских держав с неинтересной и второсортной культурой.
Но пока этого не случилось фундаментом интереса к русской культуре оставалась политика, внутренняя конкуренция и социальный контекст, которые и придавали России и ее культуре уникальный статус, определяемый как источник страха или восхищения (в зависимости от угла зрения).