Современная дикость. Культура — это теперь не про нас?
30 марта 2020 ● ИА REGNUM
Сегодня мы живем в светскую техногенную эпоху и склонны все понимать рационально, по-научному.
Рафаэль. Афинская школа. 1510-11
Мы с подозрением относимся ко всякого рода «мифам», проникнуты скепсисом по отношению ко всему, что отдает той или иной религиозностью. А между тем человек никогда не был и не будет существом до конца рациональным. Вся его сфера собственно человеческой мотивации, его ценности и идеалы располагаются в той сфере, которой испокон века занималась культура.
Однако культура, религия и вообще все собственно гуманитарные составляющие человеческой жизни в буржуазную эпоху модерна были вытеснены в частную жизнь. В жизни же общественной стали господствовать экономика и право, основанные на рациональности. В общественном пространстве человек должен вести себя как некий универсальный элемент системы, и только в частной жизни он может думать и делать все, что ему заблагорассудится.
Вытеснение всего гуманитарного из общественного пространства стало просто забвением гуманитарной области, выведением ее из общественного дискурса. Но при таком «забвении» эта область сама по себе никуда не исчезла, а только лишь начала трансформироваться, причем в довольно зловещем направлении.
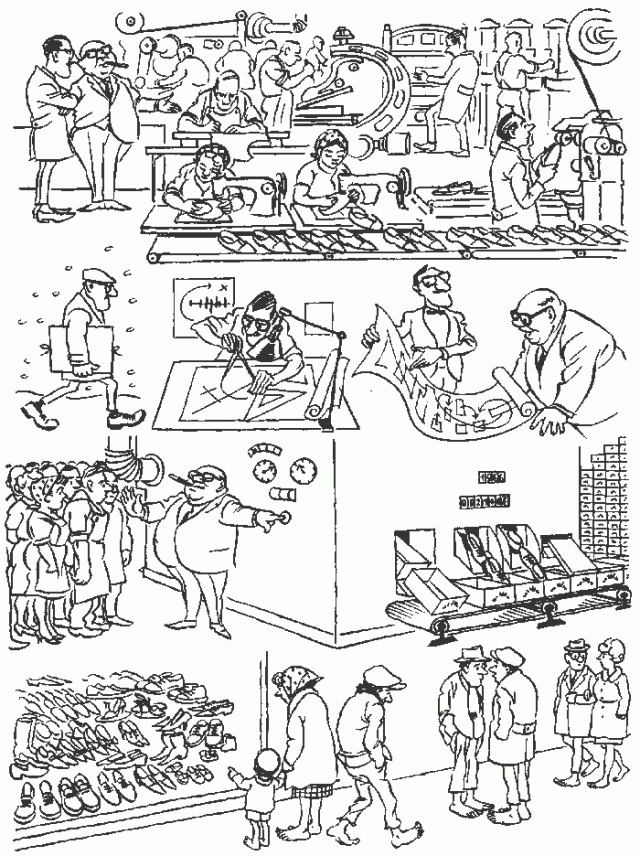
Херлуф Бидструп. Автоматизация
Чем больше человек вынужден участвовать в общественной жизни, тем больше он чувствует отчуждение от себя самого, ибо общественное стало почти равно мертвенной рациональности. Такое противопоставление всего человеческого общественному, постепенно перенаправляет культуру в антиобщественную сторону. Человек начинает метаться между «куклой», «роботом», в которых его пытается превратить общественная жизнь, и скукоживающейся и трансформирующейся определенным образом культурой. Более того, внутри нее начинают преобладать именно антирациональные тенденции, ибо все рациональное начинает ассоциироваться с тем мертвым, с чем приходится иметь дело человеку в общественной жизни и от чего он пытается сбежать. Крайним итогом такой трансформации культуры всегда будет ее смерть, при которой человек начинает выбирать между «роботизированной» общественной жизнью и зверем. Этот процесс накопления общественной «взрывчатки» внутри буржуазного модерна — одна из основных недоосмысленных причин Первой мировой войны, а потом и пришествия фашизма.
Этот процесс породил в культуре конца 19 века расцвет оккультизма. Упадок рациональности, мода на салоны, где заняты «вызыванием духов» — вот только некоторые черты той культурной деградации. Но сегодня происходит то же самое. Стоит разговориться с образованным приверженцем научного мировоззрения, как через несколько минут доверительной беседы он выдает такое, что ты понимаешь, насколько, по сравнению с этим, тонкой, рациональной и сложной системой является христианство.
Зверь и машина с двух концов начинают добивать культуру и адекватные методы ее постижения. Человек уже почти не может причаститься ее даров. Он либо превращает культуру в нечто совсем иррациональное, либо набрасывает на нее жесткую сетку рациональности. И то, и другое — одинаково неадекватно. В пределе такая система убийства культуры производит, вместо человека, гибрид робота и зверя, который лишается возможности ее постигать.

Бертран Рассел
А между тем наш язык весь пронизан христианской символикой. «Преступление» — это скорее юридический термин. А вот слово «грех», говорит о свершении ужасного деяния, которое может быть формально и не подсудно. «Преступление» говорит о внешней стороне вопроса, а «грех» — о внутренней, ибо именно язык культуры, насколько бы светской она ни была, адекватно описывает то, что происходит с обществом и внутри человека. Но мы начинаем терять понимание этого языка и даже потребность в нем. Вместе с утратой этого понимания мы теряем способность читать великие культурные тексты и тем более древние тексты.
На этой почве сильно поработали уже гуманитарные науки. Будучи сформированными только в 19 веке, они вместе с науками естественными вышли из определенной картины мира и были «заточены» на субъект-объектные отношения. Где субъект — исследователь, а исследуемое — всегда мертвый объект. И совершенно понятно, что если в естественных науках дело шло еще «туда-сюда», то гуманитарные науки, сформированные в рамках такого подхода, попросту не адекватны тем «объектам», которые они пытаются изучать, ибо объекты эти — всегда живые.
Вот, что пишет, исходя из такого научного подхода, Бертран Рассел в своем классическом труде «История западной философии»:
«Точка зрения Левкиппа и Демокрита была удивительно похожа на точку зрения современной науки и лишена большинства тех недостатков, к которым была склонна греческая спекулятивная мысль. Они полагали, что все состоит из атомов, неделимых физически, но не геометрически; что между атомами имеется пустое пространство; что атомы неразрушимы; что они всегда находились и будут находиться в движении».
«Похлопав по плечу» древнегреческих философов за то, что их точка зрения «была удивительно похожа на точку зрения современной науки», Рассел продолжает:
«Мы можем подразумевать, «какой цели служит это событие?» или мы можем иметь в виду, «какие более ранние обстоятельства послужили причиной этого события?». Ответ на первый вопрос — это телеологическое объяснение, или объяснение через посредство конечной причины; ответ на последний вопрос — механистическое объяснение. Я не знаю, как могло быть заранее известно, какой из этих двух вопросов должна ставить наука или она должна ставить сразу же оба вопроса. Но опыт показал, что механистический вопрос ведет к научному знанию, в то время как телеологический не ведет. Атомисты поставили механистический вопрос и дали механистический ответ. Их последователи вплоть до Возрождения больше интересовались телеологическим вопросом и, таким образом, завели науку в тупик».
То есть, Рассел поверяет античную философию с высоты уже открытой наукой истины и делает вывод, что теологический подход завел науку в тупик. Однако он признает, что «Я не знаю, как могло быть заранее известно, какой из этих двух вопросов должна ставить наука или она должна ставить сразу же оба вопроса». В этом «я не знаю» — вся «соль». Ведь Рассел неправомочно приравнивает философию к науке, тогда как философия всегда считалась «царицей наук». Левкипп и Демокрит исходят из совсем иных оснований, нежели наука. Хайдеггер называл подобные основания «мыслимым мыслителя», которое, чтобы понять его, «нужно вернуть в его сущность». Эта «сущность» недоступна тому подходу, которым ее мерит Рассел, а потому он и «не знает».
Вооружившись таким модернистским подходом, Рассел в той же «Истории западной философии» показательно критикует Маркса:
«Маркс провозглашал себя атеистом, но придерживался космического оптимизма, который может быть оправдан только теистически».
Итак, «космический оптимизм» связан с тем или иным вариантом теизма (верой в бога). Рассел продолжает:
«Вообще все элементы философии Маркса, которые он заимствовал у Гегеля, ненаучны в том смысле, что нет причин полагать их истинными.
Как нетрудно видеть, «телеологичность», то есть стремление к некоторой цели, и «теистичность» тут у Рассела совпадают. Они-то и порождают «ненаучность». Причем, по Расселу: либо научность — либо «космический оптимизм». И это абсолютно справедливо! Ибо какой может быть оптимизм в научности, из которой убрано все целевое, телеологическое, то есть человеческое и гуманитарное? А главное, какое может быть понимание философских текстов? Рассел дает такого «маху», что «тупиковая ветвь» у него длилась аж до эпохи Возрождения, то есть почти 2000 лет со времени Демокрита!

Теодор Гомперц 1869
С тех же научных позиций обсуждает Эмпедокла и Теодор Гомперц. В своей классической книге «Греческие мыслители» он пишет:
«Тем не менее неизмерима была значительность этого учения (Эмпедокла — прим. авт.). История науки не всегда оценивает мерилом объективной истинности. Какая-нибудь теория может быть совершенно истинной, но вместе с тем, появившись в неблагоприятную, подготовительную стадию человеческой мысли, она остается бесплодной и непроизводительной; другая теория может быть совершенно ложной — и все же в известной фазе развития она оказывается необычайно благотворной для прогресса познания».
«Значительным» учением Эмпедокла, за которое тут Гомперц «хлопает по плечу» этого мыслителя, является учение о четырех элементах, из которых, по Эмпедоклу, состоят все материальные объекты. В дальнейшем, как далее напишет Гомперц, это представление дало научный результат в химии 19 века. Но скажите, пожалуйста, как это так получается, что для того, чтобы «истинная» теория принесла плоды, необходимо, чтобы до этого долго поработала теория, которая является «совершенно ложной»? Почему она тогда, собственно, «ложная»? И насколько «истинна» та теория, которая без этой «ложной» — бесплодна?
На эти вопросы достаточно убедительно в 1962 году ответил Томас Кун, написавший знаменитую книгу «Структура научных революций». Кун показал, что есть не одна научная парадигма, а много. Что любой критерий имеет смысл только в рамках определенной парадигмы. Но Рассел и Гомперц меряют все на свете исходя только из одной парадигмы, причем той, которая несовместима с «космическим оптимизмом». Более того, критериями этой парадигмы они пытаются измерить философию, то есть «мать» всех парадигм! И именно поэтому они вынуждены говорить всякие несуразности и не могут свести концы с концами. Однако где лежит исток всех этих парадигм?

Томас Сэмюэл Кун
Он лежит в человеке! В том самом человеке, которого выводит из рассмотрения научная парадигма модерна, уничтожая за одно и «космический оптимизм», и возможность что либо не только объяснять, но и понимать.
Разные умники высказывают «глубокую» мысль, что, мол, древние верили в богов, потому что не знали законов природы. А мы-то теперь, вооруженные наукой, все понимаем и без богов! Однако уже у греческого философа второй половины 2 века нашей эры Секста Эмпирика в книге «Против физиков» мы читаем следующий обзор позиций еще более древних философов, чем он сам:
«Продик Кеосский говорит: «Солнце, луну, реки, источники и вообще все полезное для нашей жизни древние наименовали богами за пользу, получаемую от них, как, например, египтяне Нил». И поэтому хлеб был назван Деметрой, вино — Дионисом, вода — Посейдоном, огонь — Гефестом, и так все из того, что приносит пользу.
Аристотель говорил, что мысль о богах возникла у людей от двух начал — от того, что происходит с душою, и от небесных явлений. От происходящего с душою упомянутая мысль возникает через вдохновения, нисходящие на нее во сне, и через пророчества. Именно, говорит он, когда душа во сне становится сама собою, тогда, восприявши свою собственную природу, она пророчествует и прорицает будущее.
Эпикур полагает, что люди извлекли мысль о боге из представлений, полученных во сне. Именно, говорит он, на основании возникающих во сне огромных и человекообразных видений они предположили, что и на самом деле существуют некие подобные человекообразные боги.

Эжен Делакруа. Аристотель описывает животных. 1854
То есть «глубокая» мысль о том, что боги есть лишь названия природных явлений, была «общим местом» уже для древних. Но, в отличие от современных самодовольных дикарей, эти великие мужи указывают на источник как богов, так и всех на свете научных парадигм — внутреннюю жизнь человека.
Это человек задает те коды, при помощи которых он интерпретирует реальность, хоть научно, хоть при помощи богов. Великим же предшественником всех «парадигм» и богов был миф. Миф это не выдумка, а особо спрессованное представление о мире. Каков миф — таково и это представление. Корни всех традиций как религиозных, так и научных уходят в соответствующие им мифы. А основания мифов лежат в тайниках человеческого бытия. Задача же любой подлинной гуманитарной науки — научиться расшифровывать и понимать сообщения, которые нам оставили древние авторы, а не «похлопывать их по плечу» с позиции некоей истины. Эта «истина» сама своими корнями уходит в седую древность, о чем мы просто то ли позабыли, то ли просто уже не знаем из-за своей самодовольной дремучести.
Мы с подозрением относимся ко всякого рода «мифам», проникнуты скепсисом по отношению ко всему, что отдает той или иной религиозностью. А между тем человек никогда не был и не будет существом до конца рациональным. Вся его сфера собственно человеческой мотивации, его ценности и идеалы располагаются в той сфере, которой испокон века занималась культура.
Однако культура, религия и вообще все собственно гуманитарные составляющие человеческой жизни в буржуазную эпоху модерна были вытеснены в частную жизнь. В жизни же общественной стали господствовать экономика и право, основанные на рациональности. В общественном пространстве человек должен вести себя как некий универсальный элемент системы, и только в частной жизни он может думать и делать все, что ему заблагорассудится.
Вытеснение всего гуманитарного из общественного пространства стало просто забвением гуманитарной области, выведением ее из общественного дискурса. Но при таком «забвении» эта область сама по себе никуда не исчезла, а только лишь начала трансформироваться, причем в довольно зловещем направлении.
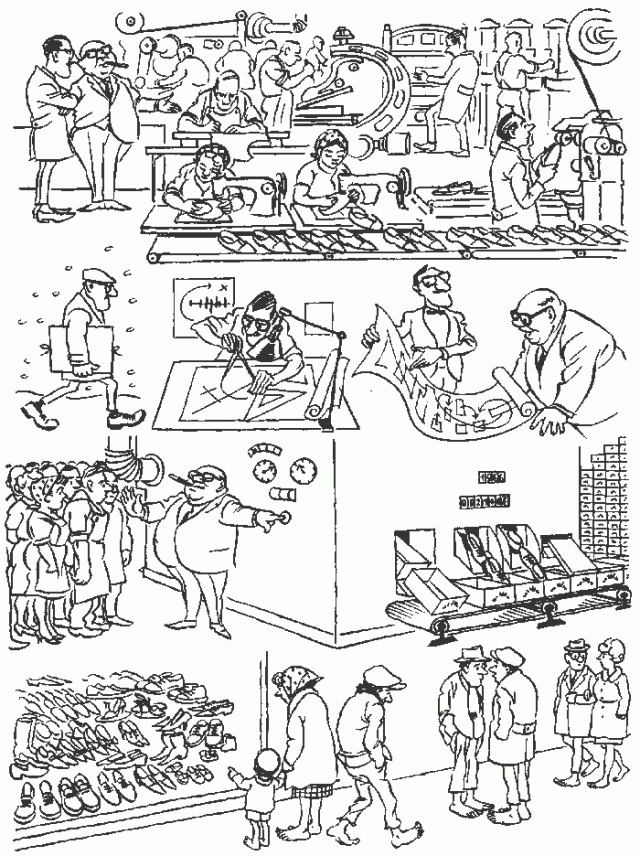
Херлуф Бидструп. Автоматизация
Чем больше человек вынужден участвовать в общественной жизни, тем больше он чувствует отчуждение от себя самого, ибо общественное стало почти равно мертвенной рациональности. Такое противопоставление всего человеческого общественному, постепенно перенаправляет культуру в антиобщественную сторону. Человек начинает метаться между «куклой», «роботом», в которых его пытается превратить общественная жизнь, и скукоживающейся и трансформирующейся определенным образом культурой. Более того, внутри нее начинают преобладать именно антирациональные тенденции, ибо все рациональное начинает ассоциироваться с тем мертвым, с чем приходится иметь дело человеку в общественной жизни и от чего он пытается сбежать. Крайним итогом такой трансформации культуры всегда будет ее смерть, при которой человек начинает выбирать между «роботизированной» общественной жизнью и зверем. Этот процесс накопления общественной «взрывчатки» внутри буржуазного модерна — одна из основных недоосмысленных причин Первой мировой войны, а потом и пришествия фашизма.
Этот процесс породил в культуре конца 19 века расцвет оккультизма. Упадок рациональности, мода на салоны, где заняты «вызыванием духов» — вот только некоторые черты той культурной деградации. Но сегодня происходит то же самое. Стоит разговориться с образованным приверженцем научного мировоззрения, как через несколько минут доверительной беседы он выдает такое, что ты понимаешь, насколько, по сравнению с этим, тонкой, рациональной и сложной системой является христианство.
Зверь и машина с двух концов начинают добивать культуру и адекватные методы ее постижения. Человек уже почти не может причаститься ее даров. Он либо превращает культуру в нечто совсем иррациональное, либо набрасывает на нее жесткую сетку рациональности. И то, и другое — одинаково неадекватно. В пределе такая система убийства культуры производит, вместо человека, гибрид робота и зверя, который лишается возможности ее постигать.

Бертран Рассел
А между тем наш язык весь пронизан христианской символикой. «Преступление» — это скорее юридический термин. А вот слово «грех», говорит о свершении ужасного деяния, которое может быть формально и не подсудно. «Преступление» говорит о внешней стороне вопроса, а «грех» — о внутренней, ибо именно язык культуры, насколько бы светской она ни была, адекватно описывает то, что происходит с обществом и внутри человека. Но мы начинаем терять понимание этого языка и даже потребность в нем. Вместе с утратой этого понимания мы теряем способность читать великие культурные тексты и тем более древние тексты.
На этой почве сильно поработали уже гуманитарные науки. Будучи сформированными только в 19 веке, они вместе с науками естественными вышли из определенной картины мира и были «заточены» на субъект-объектные отношения. Где субъект — исследователь, а исследуемое — всегда мертвый объект. И совершенно понятно, что если в естественных науках дело шло еще «туда-сюда», то гуманитарные науки, сформированные в рамках такого подхода, попросту не адекватны тем «объектам», которые они пытаются изучать, ибо объекты эти — всегда живые.
Вот, что пишет, исходя из такого научного подхода, Бертран Рассел в своем классическом труде «История западной философии»:
«Точка зрения Левкиппа и Демокрита была удивительно похожа на точку зрения современной науки и лишена большинства тех недостатков, к которым была склонна греческая спекулятивная мысль. Они полагали, что все состоит из атомов, неделимых физически, но не геометрически; что между атомами имеется пустое пространство; что атомы неразрушимы; что они всегда находились и будут находиться в движении».
«Похлопав по плечу» древнегреческих философов за то, что их точка зрения «была удивительно похожа на точку зрения современной науки», Рассел продолжает:
«Мы можем подразумевать, «какой цели служит это событие?» или мы можем иметь в виду, «какие более ранние обстоятельства послужили причиной этого события?». Ответ на первый вопрос — это телеологическое объяснение, или объяснение через посредство конечной причины; ответ на последний вопрос — механистическое объяснение. Я не знаю, как могло быть заранее известно, какой из этих двух вопросов должна ставить наука или она должна ставить сразу же оба вопроса. Но опыт показал, что механистический вопрос ведет к научному знанию, в то время как телеологический не ведет. Атомисты поставили механистический вопрос и дали механистический ответ. Их последователи вплоть до Возрождения больше интересовались телеологическим вопросом и, таким образом, завели науку в тупик».
То есть, Рассел поверяет античную философию с высоты уже открытой наукой истины и делает вывод, что теологический подход завел науку в тупик. Однако он признает, что «Я не знаю, как могло быть заранее известно, какой из этих двух вопросов должна ставить наука или она должна ставить сразу же оба вопроса». В этом «я не знаю» — вся «соль». Ведь Рассел неправомочно приравнивает философию к науке, тогда как философия всегда считалась «царицей наук». Левкипп и Демокрит исходят из совсем иных оснований, нежели наука. Хайдеггер называл подобные основания «мыслимым мыслителя», которое, чтобы понять его, «нужно вернуть в его сущность». Эта «сущность» недоступна тому подходу, которым ее мерит Рассел, а потому он и «не знает».
Вооружившись таким модернистским подходом, Рассел в той же «Истории западной философии» показательно критикует Маркса:
«Маркс провозглашал себя атеистом, но придерживался космического оптимизма, который может быть оправдан только теистически».
Итак, «космический оптимизм» связан с тем или иным вариантом теизма (верой в бога). Рассел продолжает:
«Вообще все элементы философии Маркса, которые он заимствовал у Гегеля, ненаучны в том смысле, что нет причин полагать их истинными.
Как нетрудно видеть, «телеологичность», то есть стремление к некоторой цели, и «теистичность» тут у Рассела совпадают. Они-то и порождают «ненаучность». Причем, по Расселу: либо научность — либо «космический оптимизм». И это абсолютно справедливо! Ибо какой может быть оптимизм в научности, из которой убрано все целевое, телеологическое, то есть человеческое и гуманитарное? А главное, какое может быть понимание философских текстов? Рассел дает такого «маху», что «тупиковая ветвь» у него длилась аж до эпохи Возрождения, то есть почти 2000 лет со времени Демокрита!

Теодор Гомперц 1869
С тех же научных позиций обсуждает Эмпедокла и Теодор Гомперц. В своей классической книге «Греческие мыслители» он пишет:
«Тем не менее неизмерима была значительность этого учения (Эмпедокла — прим. авт.). История науки не всегда оценивает мерилом объективной истинности. Какая-нибудь теория может быть совершенно истинной, но вместе с тем, появившись в неблагоприятную, подготовительную стадию человеческой мысли, она остается бесплодной и непроизводительной; другая теория может быть совершенно ложной — и все же в известной фазе развития она оказывается необычайно благотворной для прогресса познания».
«Значительным» учением Эмпедокла, за которое тут Гомперц «хлопает по плечу» этого мыслителя, является учение о четырех элементах, из которых, по Эмпедоклу, состоят все материальные объекты. В дальнейшем, как далее напишет Гомперц, это представление дало научный результат в химии 19 века. Но скажите, пожалуйста, как это так получается, что для того, чтобы «истинная» теория принесла плоды, необходимо, чтобы до этого долго поработала теория, которая является «совершенно ложной»? Почему она тогда, собственно, «ложная»? И насколько «истинна» та теория, которая без этой «ложной» — бесплодна?
На эти вопросы достаточно убедительно в 1962 году ответил Томас Кун, написавший знаменитую книгу «Структура научных революций». Кун показал, что есть не одна научная парадигма, а много. Что любой критерий имеет смысл только в рамках определенной парадигмы. Но Рассел и Гомперц меряют все на свете исходя только из одной парадигмы, причем той, которая несовместима с «космическим оптимизмом». Более того, критериями этой парадигмы они пытаются измерить философию, то есть «мать» всех парадигм! И именно поэтому они вынуждены говорить всякие несуразности и не могут свести концы с концами. Однако где лежит исток всех этих парадигм?

Томас Сэмюэл Кун
Он лежит в человеке! В том самом человеке, которого выводит из рассмотрения научная парадигма модерна, уничтожая за одно и «космический оптимизм», и возможность что либо не только объяснять, но и понимать.
Разные умники высказывают «глубокую» мысль, что, мол, древние верили в богов, потому что не знали законов природы. А мы-то теперь, вооруженные наукой, все понимаем и без богов! Однако уже у греческого философа второй половины 2 века нашей эры Секста Эмпирика в книге «Против физиков» мы читаем следующий обзор позиций еще более древних философов, чем он сам:
«Продик Кеосский говорит: «Солнце, луну, реки, источники и вообще все полезное для нашей жизни древние наименовали богами за пользу, получаемую от них, как, например, египтяне Нил». И поэтому хлеб был назван Деметрой, вино — Дионисом, вода — Посейдоном, огонь — Гефестом, и так все из того, что приносит пользу.
Аристотель говорил, что мысль о богах возникла у людей от двух начал — от того, что происходит с душою, и от небесных явлений. От происходящего с душою упомянутая мысль возникает через вдохновения, нисходящие на нее во сне, и через пророчества. Именно, говорит он, когда душа во сне становится сама собою, тогда, восприявши свою собственную природу, она пророчествует и прорицает будущее.
Эпикур полагает, что люди извлекли мысль о боге из представлений, полученных во сне. Именно, говорит он, на основании возникающих во сне огромных и человекообразных видений они предположили, что и на самом деле существуют некие подобные человекообразные боги.

Эжен Делакруа. Аристотель описывает животных. 1854
То есть «глубокая» мысль о том, что боги есть лишь названия природных явлений, была «общим местом» уже для древних. Но, в отличие от современных самодовольных дикарей, эти великие мужи указывают на источник как богов, так и всех на свете научных парадигм — внутреннюю жизнь человека.
Это человек задает те коды, при помощи которых он интерпретирует реальность, хоть научно, хоть при помощи богов. Великим же предшественником всех «парадигм» и богов был миф. Миф это не выдумка, а особо спрессованное представление о мире. Каков миф — таково и это представление. Корни всех традиций как религиозных, так и научных уходят в соответствующие им мифы. А основания мифов лежат в тайниках человеческого бытия. Задача же любой подлинной гуманитарной науки — научиться расшифровывать и понимать сообщения, которые нам оставили древние авторы, а не «похлопывать их по плечу» с позиции некоей истины. Эта «истина» сама своими корнями уходит в седую древность, о чем мы просто то ли позабыли, то ли просто уже не знаем из-за своей самодовольной дремучести.