Азохен вэй, духовность!
15 мая 2017 ● "Горький"
Как пишут биографии русских художников.
Почему Хармс самоуверенно разговаривал с Малевичем, Василий Кандинский увлекался мессианством и духовностью, а еврей-лавочник кричал «Азохен вэй» чеченскому художнику Петру Захарову?
Почему Хармс самоуверенно разговаривал с Малевичем, Василий Кандинский увлекался мессианством и духовностью, а еврей-лавочник кричал «Азохен вэй» чеченскому художнику Петру Захарову?
В очередном обзоре биографической литературы Валерий Шубинский рассказывает о современных жизнеописаниях русских художников.
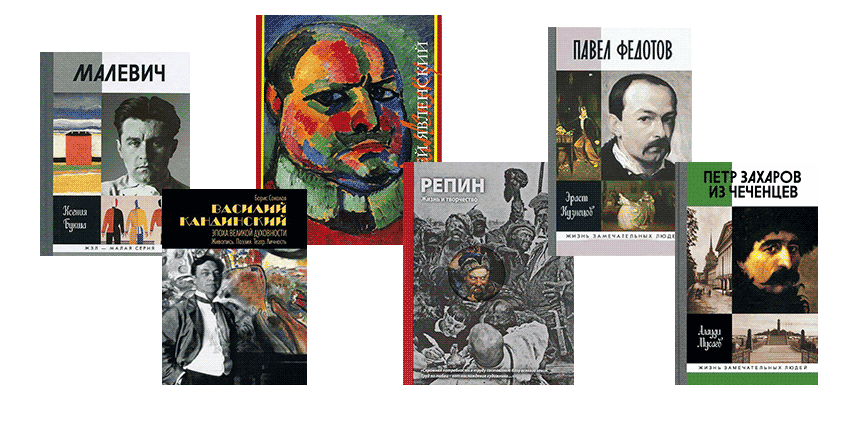
Ксения Букша. Малевич. М.: Молодая гвардия, 2013
Борис Соколов. Василий Кандинский. Эпоха великой духовности. М.: БукСмарт, 2016
Ирина Девятьярова. Алексей Явленский. М.: Искусство XXI век, 2012
Елена Кириллина, Григорий Стернин. Репин: Жизнь и творчество. М.: Эксмо, 2014
Эраст Кузнецов. Павел Федотов. М.: Молодая гвардия, 2014
Аулади Мусаев. Петр Захаров из чеченцев. М.: Молодая гвардия, 2016
Жизнь художника можно описывать по-разному. Есть (и это первое, что приходит в голову) два типа биографической книги: биография «жэзээловского» типа, где главное — текст, а репродукции ютятся на вклейках, и биография-альбом. Есть биография художественная и документальная. Написанная писателем и ученым-искусствоведом. Продвинутая по методике и кондовая, старомодная…
Многочисленные книги о русских художниках, вышедшие в последние годы, дают примеры едва ли не всех перечисленных вариаций.
Итак, первая книга, биография Малевича, написана Ксенией Букшей и издана в «малой серии» ЖЗЛ. Место издания говорит само за себя — это не альбом. Имя автора тоже — это не искусствовед, а писатель.
Понятно, что в центре внимания здесь личность художника. На архивные открытия автор, кажется, не претендует. Его цель — разобраться в известном. Не «разоблачить миф», не противопоставить ему правду факта, а понять, как миф строится и рождается. В том числе на микроуровне.
«Якобы идет он как-то по Москве, а тут — похороны, несут в гробу маленькую девочку, за гробом мать и двое старших детей. И тут Малевич понимает: да это же его жена, его дети, это хоронят его младшую дочь! И сам художник в стороне, у стены, как тень, бедный, голодный. „Эх, почему я не передвижник? Тема, тема-то какая для картины!” — восклицал Малевич в пересказе Клюна. Никакой третьей дочери от первого брака у Малевича не было… Всю историю можно охарактеризовать как крепчайший глум, превосходящий розыгрыши футуристов и обэриутов. Причем смысл истории не в том, что Малевич — циник, а именно в самой его готовности выдумать эту трагедию, причем именно для наивного Клюна, который всерьез в нее поверил. Если весь авангард немножко цирк, то эта шутка Малевича — трюк высшей категории».
Но — и это мне кажется большим достоинством книги Букши — человеческое нигде не отделяется у нее от общекультурного. Ожидать, что хороший прозаик увидит по-своему личности Малевича и Клюна, Шагала и Гершензона, Родченко и Ларионова и их взаимоотношения, в общем-то, естественно. А вот достаточно глубокое и внятное культурологическое мышление, вычленяющее главное, — это далеко не само собою подразумевается. И тем не менее…
«…И вот еще одна важная вещь о кубизме. Это первый стиль, который сопротивляется зрителю. Импрессионизм мог шокировать академиков, но людям он нравился сразу и нравится сейчас. Кубизм не хочет нравиться. Он не льстит. Чтобы кубизм понравился, надо сделать шаг к пониманию, как Щукин…. Кубизма почти нет в поп-культуре».
Мне (позволю себе личную ноту) понравилось, как глубоко и тонко написаны две страницы об одном из собеседников Малевича в последнее десятилетие жизни — о Данииле Хармсе.
«Потому что был Хармс и символистом, глубоким мистиком; он умел осмыслить то, что у Малевича происходило интуитивно и чем Малевич, в силу своего жизненного пути, не оперировал так свободно. Малевич, рискнем предположить, всегда немного стеснялся рассуждать о мистическом; может быть, он чувствовал себя в таких случаях дикарем, как с Матюшиным и Гершензоном, хотя его ободряло их благосклонное внимание, и с ними он пускался-таки в рассуждения об опыте неведомого. Хармс же с детства был там как дома. Где у Казимира были только смутные прозрения и попытки теоретизировать — там Хармс мог творить законченные символические системы, связывая уже существующее с собственными изобретениями».
Я на эту коллизию — Малевич/Хармс — всегда смотрел с «хармсовской» стороны, и меня поражала та самоуверенность, с которой двадцатилетний писатель разговаривал с мэтром, и то, как обаяние Хармса подействовало на Малевича. Но вот оказывается, что у великого Казимира (с его двумя классами земледельческого училища) были свои комплексы, свои внутренние проблемы — в чем-то он ощущал превосходство юного чинаря.
Вообще, по прочтении книги Букши остается открытым вопрос — что есть Малевич? Он, который долго шел по стопам раньше созревших сверстников (тех же Ларионова и Гончаровой), учился у них, чтобы затем всех затмить своим супрематизмом… Художник нового типа, чьим продуктом является не столько артефакт, сколько идея? Или все-таки мастер в более традиционном понимании? Ответа Букша не дает, но вопрос ее книга ставит.
Что можно поставить в упрек удачной книге? Пожалуй, лишь одно — пренебрежение историко-бытовым (не историко-культурным) контекстом, что приводит иногда к торопливо-неточной интерпретации фактов. Ну вот про отца, Северина Малевича: «В документах его именовали „практиком”, а это значит, что высшего образования Северин не получил, иначе указывали бы, что он окончил гимназию или университет». Так гимназию или университет? И где это должны были указывать? Или вот: «В 1901 году Казимир женился. Это был первый поступок, совершенный им против воли родителей. Жену звали Казимира, Казимира Ивановна Зглейц, она была дочерью врача; семья — набожные католики, мать — красавица, дочери тоже. Ей было всего пятнадцать, регистрировали с шестнадцати лет — пришлось немного подождать». Регистрировали — это значит венчали? Жил невенчанным с пятнадцатилетней девицей из хорошей набожной семьи? Сказать, что это за гранью фола, — значит ничего не сказать… Но Википедия сообщает, что Казимира Зглейц родилась в 1881 году.
Перейдем к книге Соколова. Само название ее немного смущает. На памяти моего поколения ореол некоторых слов неоднократно менялся. В 1980-е интеллигентному человеку прилично и даже престижно было говорить о «духовности», в 1990-е — не очень… Сейчас же это слово даже не вызывает никаких эмоций, настолько оно нерелевантно языку нашего времени. Но речь идет и не о нашем времени, а о начале XX века. И слово «духовность» — из словаря самого художника/мыслителя/поэта.
«Что представляет собой Великая Эпоха Духовности, требующая новых способностей восприятия и нового, пророческого искусства? Высказывания и живописные образы Кандинского рисуют ее как рай на земле, высшее развитие духовных способностей, объединение человечества и его жизнь в соответствии с моральными принципами…»
К пафосу Кандинского автор книги относится очень серьезно. Постоянно употребляется слово «мессианство», в том числе в названиях глав («Мессианские мотивы в жизни и творчестве Кандинского 1909–1916», «Сценические работы Кандинского и мессианский театр русского авангарда», «Поэзия В.В. Кандинского и ее мессианская программа»). Может быть, недостаток дистанции — главный порок книги Соколова.
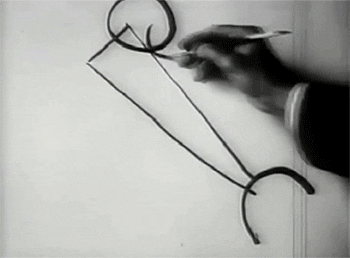
Однако внутренний парадокс творческой судьбы Кандинского в его книге виден хорошо. Великий художник был человеком символистского поколения, сверстником Вячеслава Иванова, современником Андрея Белого, Штайнера, Чурлениса. А вот по своему художественному языку он принадлежал следующей эпохе, эпохе авангарда. Но эта эпоха, хорошо чувствуя и принимая Кандинского-мастера, уже с недоумением воспринимала его идеи.
«Раздраженные слова Родченко — „в произведении есть то, что там действительно есть реально, что мы все видим, — и больше ничего” — хорошо поясняют позицию молодых художников. Большинство из них, в том числе супрематист Лисицкий, оспаривавший супрематизм Казимира Малевича, стремились поставить в центр художественного творчества мир конструктивных элементов, образующих инженерно и фактурно ясные системы. С этим связано их возмущение неясностью, „наведением мистики” и расплывчатостью эстетических формулировок».
Это чисто идейная биография. На «человеческом» аспекте жизни Кандинского Соколов едва останавливается. Читать такую книгу не так уж просто, но тот, кто устал от «духовности» и «мессианизма», может отдохнуть глазом на отличных репродукциях — перед нами дорогое издание альбомного типа.
Такого же, альбомного, типа книга Девятьяровой о Явленском. Но написана она совершенно иначе — по старинке, добротно.
«Прадед Александра Ивановича по отцовской линии, Иван Явленский, происходил из Рязанской губернии и принадлежал к лицам духовного звания. ... Прадед Яков Михайлович Хвостов был предводителем дворянства в Вышнем Волочке…»
Прямо-таки погружаешься в эту респектабельную родословную авангардиста, в германский период не зря прибавлявшего к своей фамилии частицу «фон». Такими же респектабельными оказываются под пером биографа и все подробности жизни художника, включая даже брак втроем с Марианной Веревкиной и Еленой Незнамовой. Взаимоотношения с коллегами тоже складываются несколько однообразно-безоблачно: «Важную роль в жизни Явленского сыграла встреча с Полем Серюзье… Поддержал он и художественные, и живописные искания Александры Экстер…»
Но что-то во всем этом есть привлекательное. Именно по контрасту с творчеством художника. А впрочем, ведь и тут все сложно. Маски и кресты позднего Явленского — результат долгой эволюции, в которой было место и традиционнейшему реализму, и импрессионизму, и фовизму… Эволюционировал — правильно, вместе с мировым искусством. Можно и так сказать.
Лишь иногда стиль Девятьяровой начинает несколько раздражать: когда натыкаешься на абсолютно бессодержательные фразы, которые могут содержаться в биографии любого художника. Художника вообще.
«...Таким образом в России был заложен прочный фундамент жизни Явленского, художника и человека, что позднее обеспечило его творческий расцвет».
Или:
«Постоянно недовольный собой, Явленский много и упорно работает».
Но все-таки про Явленского можно писать (и читать) и так. По контрасту. Другое дело — его учитель Илья Ефимович Репин.
Зачем в XXI веке писать о жизни и творчестве Репина? Чтобы найти советскому идолу параллели в мировой культуре — от Курбе и Мане до Менцеля и Либермана, от Матейко до Бастьен-Лепажа? Чтобы заново, из эпохи постмодерна осмыслить натуралистический проект передвижников? Чтобы полюбоваться колоритными деталями куоккальского вегетарианского быта?
А вот как обозначают идею своей книги Стернин и Кириллова, почтенные советские еще специалисты:
«Выражение „как в жизни” часто используется для описания отличительных свойств работ Репина. Это выражение действительно отражает основные принципы тона и стиля его творчества… Оно не учитывает главного — сильной творческой воли художника, прямоты его представлений, необычного мастерства».
В каком году это написано (1950? 1980?) и на человека какого развития рассчитано? И насколько глухим ко всему, кроме стереотипов, надо быть, чтобы про портрет Мусоргского, страшной, почти омерзительной выразительности которого не убил даже «замыленный глаз», писать: «Художник… сосредоточен на немеркнущей силе духа, а не на больном теле». В том-то и дело, что вместо ожидаемой «немеркнущей силы духа» нам бесстрашно предъявляют разлагающуюся заживо плоть… Ну а прочитав слова «жизнеутверждающая сила образа», испытываешь острое желание альбом захлопнуть. Впрочем, дело спасают хорошие репродукции самых разных репинских работ — от замечательных портретов до тошнотворной композиции «Какой простор!». Тем Репин и интересен, что в нем гальсовская мощь и смелость соединяются со среднеинтеллигентской пошлостью и плоскостью: иногда побеждает первое, иногда — второе… Есть и репродукции художников, современников Репина. Даже одна работа Мане. Хотя сравнивать Репина Стернин и Кириллова предпочитают по шаблону — с Крамским.
Отодвигаемся еще на поколение назад.
Павел Федотов — художник объективно, может быть, и не великий, зависимый и от Хогарта, и от малых голландцев, и от русской литературы своего времени (Гоголя), но почему-то сегодня очень «живой», интересный, востребованный.
Книга Эраста Кузнецова, как и книга Ксении Букши, написана «по-писательски». Но иначе.
Кузнецов внимателен к жизненной плоти, к быту; он и пишет о бытовике, а не об абстракционисте.
«Вставали рано — в семь, а то и в шесть; ложились тоже рано. На ночь окна не открывали, боясь воров и простуды. Спали на перинах, укрываясь потеплее, а печи топили на совесть. Заболев, докторов не звали, обходились своими средствами, как при Алексее Михайловиче или даже Иване Грозном: клали под подушку листок с заклинанием дочерей царя Ирода против двенадцати лихорадок, употребляли четверговую соль, заваривали травы, парились в бане, звали знахарку. Много, если в доме держался знаменитый «Енгалычевский лечебник»».
И о чем бы дальше ни шла речь — кадетский корпус, полк, Академия художеств, — все очень подробно, сочно. О высоких историко-культурных проблемах, о русском и мировом контексте рассуждений меньше. Но контекст возникает сам, и какой!

Джеймс Уистлер начинал учиться живописи (так уж получилось) в России. В 1845 году. Первым учителем великого американца был некий офицер-художник. Поклонник Хогарта. Таких явно было немного. Первым учителем Уистлера был Федотов! Ничего себе сюжет?
Недостаток же у книги Кузнецова, может быть, один. Художник, влюбленный в эксцентрику и сам достаточно житейски эксцентричный (чего стоят раешники, которые он декламировал на выставках, объясняя сюжеты своих картин!), иногда выглядит у него чуть сверх меры пафосно — не то романтический гений, не то борец с общественной безнравственностью.
Но логика короткой и довольно странной жизни автора «Сватовства майора» оказывается сильнее пафоса. Как ни скажешь — а получается то ли Гоголь, то ли ранний Достоевский.
«Если хорошенько призадуматься, так не один Федотов жил в теле отставного гвардии штабс-капитана, а по крайней мере двое: первый из них был человек обыкновенный, добрый и славный Павел Андреич, второй — выдающийся художник; и отношения их были не просты. Сначала второй отставал от первого и семенил за ним, верно служа его нуждам, потом, обласкиваемый и выхаживаемый, стал крепнуть, догонять, наконец и обгонять своего старшего собрата».
Дальше — про безумное поведение постепенно сходящего с ума от прогрессивного паралича художника.
«Побывал в нескольких знакомых домах, в каждом посватался, вызвав полное недоумение хозяев, и рассуждал о том, какие постройки возведет для своей будущей жизни, потом исчезал так же неожиданно, как появлялся. Рассказывали, что он заказал себе гроб, предварительно примерив его!»
Читаешь это со смесью интереса и мучительной жалости и все время думаешь о том, как эксцентрик Федотов самого себя, сумасшедшего, изобразил бы.
В общем, хорошая книга.
В ту же эпоху жил художник Петр Захаров из чеченцев, о котором, собственно, известно только то, что он был из чеченцев. Наследие его — полтора десятка довольно заурядных картин и девять рисунков. То, что ЖЗЛ издала его биографию, продиктовано явно не историко-культурными и не коммерческими соображениями. Что ж, многострадальному чеченскому народу, переживающему сложный и противоречивый период трансформации, очень нужны, видимо, такие — штатские, мирные, светские — герои.
Но что можно написать про человека, про которого ничего не известно? Скажем, роман. Его А. Мусаев и пишет.
«Еще не отдышался, отмахал прыжками пять мраморных маршей, шел, скользил, летел по зеркалу полов, озираясь. Петр (Пьетро, Петруччио по прозванию академистов-соучеников, бледноликих недорослей-дворянчиков, а он, понятно, из посторонних, ибо инородец), так вот, Петр Захаров — копиист. Покуда. Доусердствовал. Не каждого допускают до изготовления копий в священные залы императорского Эрмитажа (хотя все в России было под имперским крылом — и высокое, и убогое)».
Ну, что ж, хорошая советская школа. Немного смущают «дворянчики» в Академии художеств, но на первый раз — ладно…
Мусаев тщательно использует немногую имеющуюся информацию: мальчик, найденный трехлетним в разоренном ауле; обучение в Академии; знакомство с Лермонтовым. Иногда, конечно, впадает в пафос. Но не в пафосе даже дело.
Вот описание смерти художника.
Приехал в Москву, хотел «ступить на плиты Андрониковой обители, которые хранят шаги Андрея Рублева», но почувствовал себя плохо на улице, у москательной лавки. Оттуда «высунулась юркая мордашка еврея-лавочника»…
Нет, у меня не к «юркой мордашке» претензия — хотя попробовал бы кто так писать о чеченцах! В конце концов, юркий лавочник не делает ничего дурного: он не только кричит «Азохен вэй», но и пытается оказать Захарову первую помощь. Но, если ты пишешь исторический роман, рекомендуется знать историю не только «в общих чертах», но и в деталях: выходцы из каких сословий учились живописи, когда в Москве появились евреи-лавочники, когда возник интерес к творчеству Андрея Рублева (на всякий случай: и то, и другое произошло много позже 1846 года, когда пресеклись дни Захарова из чеченцев).
Кстати, биография Андрея Рублева тоже недавно переиздана ЖЗЛ. Выбор в очередной раз пал на книгу В.Н. Сергеева, вышедшую в 1981 году. Рецензировать труд почти сорокалетней давности мы здесь не будем. Заметим лишь одно: неприятное впечатление производит содержащийся в предисловии оскорбительный выпад в адрес автора другой жзловской книги о Рублеве — В.С. Прибыткова, вышедшей еще в 1960 году. Может быть, книга Прибыткова недостаточно глубока искусствоведчески, и, несомненно, она несет на себе черты своей «атеистической» эпохи (хотя почему бы о Рублеве не писать и не размышлять и атеистам тоже?), но написана она была очень живо, с острым чувством истории. И именно биографические реконструкции Прибыткова были использованы в сценарии фильма Тарковского, что уже придает его работе некоторое значение. Уважение к предшественникам и «конкурентам» — золотое правило автора биографий.
В следующем обзоре мы поговорим про недавно вышедшие биографии западноевропейских художников: Микеланджело, Сезанна, Рембрандта и других.